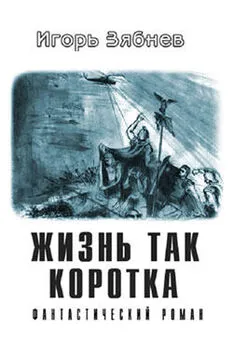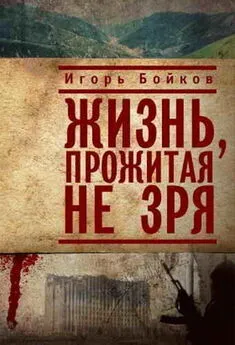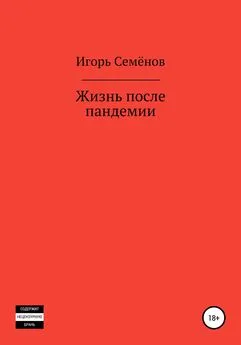Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИП Князев»c779b4e2-f328-11e4-a17c-0025905a0812
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-7439-0160-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование краткое содержание
Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.
Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще набросок, «Ангел небесный», – всего двенадцать строк, но их, пожалуй, достаточно, чтобы увидеть «странного, странного» человека, равнодушного ко всему на свете, и к чужой смерти тоже, человека, не ведающего ее великого таинства… Э. Корпачев, со слов Казакова, так излагает этот сюжет: «Жил-был один москвич, которому казалось, что он слишком хорошо знает людей для того, чтобы не любить их. И более всего ему были по душе командировки, поездки. А в командировке, исполнив необходимые по службе дела очень любил оставаться в гостиничном номере один и читать детективы. Но вот однажды, в одной из поездок, случилось ему в ресторане обедать за одним столиком с гастролирующими лилипуточками. Они разговорились, ему очень понравились эти крошечные женщины, и уже все оставшееся время своей командировки он делил с гастролирующими лилипутками. Но в Москве, когда он вернулся и поделился с приятелем необычным своим знакомством, приятель грустно предостерег: „А знаешь, это не просто знакомство, это ангел небесный к тебе прилетал. А когда прилетает к нам ангел небесный – это не доброе предзнаменование: жди чего-то самого худшего, чуть ли не смерти“. И произошло так, как предсказал приятель. У нашего москвича вскоре случился удар, остался он на всю жизнь прикованным к койке. И вот тут-то, как раз тут-то! Да, что-то удивительное стало с ним происходить, и если раньше он сторонился людей, то теперь ему нужны были люди, не раздражали его, не тяготили, и он почувствовал, что вновь полюбил людей…»
Еще – страничка о смерти Чифа, любимой собаки Казакова. По словам Т. М. Судник, спаниель Чиф прожил у них двенадцать лет: «Юрий Павлович сам нарек его этим „морским“ именем – у моряков оно означает „старпом“, в полтора года спас его от чумки – дневал и несколько раз ночевал в ветеринарной лечебнице, брал его с собой на тягу, ходил с ним на собачьи выставки, а я по его заданию несколько лет вела подробный дневник Чифа». Плач по Чифу – как плач по человеку, по другу, горе от осознания быстротечности всякой жизни и вместе с этим восхищение ее красотой: «А какой теплый августовский день клонился тогда к вечеру! Какие царственные облака плыли по небу! Как наслаждалось, как торопилось жить все живое вокруг, по лесам и полям, по своим гнездам и норкам, как жадно хлопотало, не подозревая даже, что еще одна душа уже далече, и смотрит на нас – как? Сострадая? Любуясь всеми нами, сожалея, завидуя прежней своей жизни на земле?»
И наконец, «Смерть, где жало твое?» – три с половиной страницы, посвященные Николаю Михайловичу Акользину, бывшему кандидату и доценту, москвичу, а с недавних пор лесничему в диких северных краях, куда он добровольно приехал, – собственно, умирать.
Первоначально рассказ назывался «Глухари», о нем Казаков писал Конецкому еще в марте 1958 года, – героя с той же фамилией звали Павлом Владимировичем, – вспоминал он этого героя и позже.
Когда сумрачным дождливым днем плыл Акользин на пароходе по осенней реке, «что-то сдвигалось в нем, открывалась какая-то пустота, в которую он никогда не заглядывал раньше, и странные мысли о времени, о жизни появлялись у него…». Предвестие этого сдвига и духовное преображение Акользина и должно было, по всей вероятности, стать предметом повествования и обозначить очередной рубеж в эволюции казаковского лирического героя.
Юный, восторженный созерцатель убегал, как помним, из города на лоно природы, дабы насладиться ее прелестью, не слишком вникая в причины своего безотчетного влечения. И вот теперь, на закате жизни, уходил в природу человек, привыкший «думать и говорить исторически», пользовавшийся широкими категориями, человек, пытавшийся понять: «Что же такое жизнь? Где она и в чем ее главное проявление?»
С присущим ему лаконизмом Казаков обнажает суть того внутреннего конфликта, который преследует Акользина: «И когда он жил в Москве, в своей хорошей квартире, когда он слышал по утрам радио, читал газеты, читал лекции студентам, говорил о будущем переустройстве земли не только в социальном, но и в физическом смысле, он свято верил во все это, мало того, он совершенно отчетливо представлял все это. А теперь что-то новое вдруг открылось в нем и удивляло его самого. Он смотрел на сизые избы, на людей, на реку, на лес, он пристально вглядывался в мельчайшие подробности и думал со смутным и странным ощущением, что, может быть, и важно то, чем он жил раньше и чем жил его круг людей, его общество, но что все это как-то отходит вдруг на задний план перед тем, что его окружало и полонило сейчас».
Это конфликт – разума и сердца, воли и смирения, учености и интуитивного знания, конфликт, во многом определяющий жизненный выбор и судьбу каждого человека. Связанный с Акользиным замысел не был осуществлен, и конфликт этот так и остался неразрешенным.
Однако было бы неверно думать, что лишь тема смерти приковывала Казакова в его неосуществленных замыслах.
В июне 1977 года он делился со своим старым учителем профессором В. В. Хоменко: «Я частенько вспоминаю свои музыкантские годы, и странно, что ни одного рассказа я почему-то не написал о музыкантах! Несколько лет назад в Гнесинском зале, ранней весной, состоялась премьера моих рассказов. Читал Борис Моргунов, а я в это время сидел в Алма-Ате, в горах, возле Медео, в санатории Совета Министров и занимался переводом романа Нурпеисова. И вот вообразил я московскую весну, улицу Воровского, которую я очень люблю, премьерную публику, гнесинский уютный зал – и так защемило у меня на сердце, такая ностальгия схватила, так захотелось очутиться в Москве…» И далее сообщал, что задумал все-таки «написать рассказ о пианисте и композиторе» и хотел бы знать, «как играет, скажем, Рихтер», интересовался – «чтобы не наврать» – мельчайшими подробностями: «…заграничные гастроли – на каких условиях, есть ли у него импресарио, контракты, неустойки и проч. и проч.». Отголоски этого замысла слышны в наброске «Старый дом».
Словом, замыслы у Казакова были разнообразные – и веселые, легкие, праздничные, например, фрагмент безымянного рассказа о том, как молодой московский инженер Саша Скачков собирался ехать туристом в Париж; и озорные, сатирического оттенка – набросок об аспиранте Федоре Коне, который думал «преимущественно о двух вещах»: о покинувшей его жене и о своей диссертации «Роль случайности в истории русской цивилизации»; и совсем уж для Казакова замыслы необычные. Об одном из таких он упомянул в ноябре 1979 года в «Литературной газете»: «Вот совсем недавно закончил рассказ несколько неожиданный. Он вырос из поездки к другу, из случая в дороге. Я попал в туман, а туман всегда рождал во мне ощущение потерянности. Но никогда еще – столь полную иллюзию неподвижности. Я понимал, что машина движется, но не мог оторвать глаза от стрелки, показывающей, что бензин на нуле. И вот возник сюжет: некто едет, видит на дороге дом за странно непрерывной оградой, входит – так начинаются чудеса. Этот рассказ, поскольку он несколько фантастический, написан в иронической манере, совершенно не свойственной мне…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: