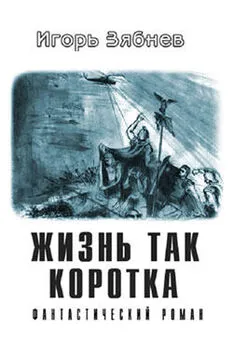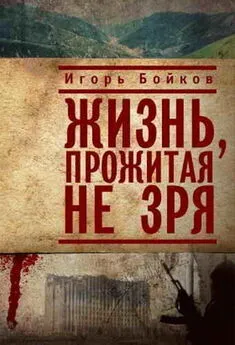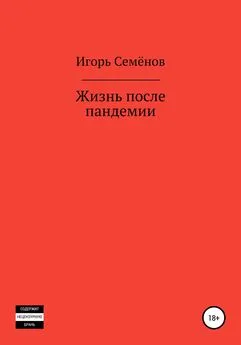Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИП Князев»c779b4e2-f328-11e4-a17c-0025905a0812
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-7439-0160-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование краткое содержание
Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.
Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рождение, исток жизни и ее финал оказывались одинаково значимыми. Человек приходил в мир со своей тайной и уносил ее с собой в могилу. Эта тайна пребывания человека в земной обители мучила Казакова постоянно, и он упирался в тот же вопрос вопросов, который с такой беспощадностью звучал в толстовской «Исповеди».
«Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, – писал Толстой, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: „Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?“ Иначе выраженный, вопрос будет такой: „Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?“ Еще иначе выразить вопрос можно так: „Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?“»
Для Казакова этот вопрос о смысле человеческой жизни, вопрос о бессмертии был овеян мыслью о родстве отца и сына, мыслью о единении их душ. Как ни горько отцу в казаковском рассказе чувствовать, что сын в свои полтора года уже уходит от него, что душа сына «с каждым годом будет все отдаляться, отдаляться», в нем все-таки теплится надежда, что души их «когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться». Как верно заметил А. Арьев (1988), «разъединение душ» таит у Казакова «мечту о „единении душ“, мечту, которой всегда жил писатель и которой жив человек». В этой мечте, в этой надежде – и символ личного бессмертия, и, помимо того, залог духовной цельности народа и нации.
Да, родство отца и сына предстает у Казакова как непременное условие бессмертия нации и народа, а следовательно, и всего человечества. На эту, может быть, одну из коренных черт казаковского миропонимания обратили в свое время внимание и, думается, верно ее интерпретировали М. Эпштейн и Е. Юкина в статье «Образы детства» (1979). Два последних рассказа Казакова, по логике авторов этой статьи, как бы венчали собой давнюю традицию русской литературы, а проблема родства и отцовства попадала в прямую зависимость от проблемы духовного бытия народа.
«Тема детства вошла в русскую литературу, – говорилось в статье, – как признак интенсивного самосознания личности и нации, отдалившихся от своих стихийных, бессознательных истоков – и обернувшихся к ним. Может быть, не случайно, что интерес к детству отчетливее всего выражен у тех русских писателей, которые наиболее преданы идее старины, почвы, патриархального уклада: у Аксакова, Достоевского, Толстого, Бунина… Поэзия прошлого вообще имеет неоценимое значение для развития личности и нации, отнюдь не меньшее, чем фантазия о будущем. Любовь к прошлому придает самозамкнутость и самоценность прожитой жизни, выступающей уже не как средство для настоящего, но как цель в себе; сберегая прошлое, личность тем самым сохраняет непрерывность своего развития как личности, целостность духовного бытия».
У Толстого, по мнению авторов статьи, впервые в русской литературе выразились «психологические особенности ребенка и одновременно – народа как единого лица»; Толстой настойчиво возвращал своих героев к стихийной, природной первооснове их существования – «потому-то детство и народ (начала всех начал) оказываются для него подлинными и первичными реальностями, над которыми нарастают выдуманные мифы взрослого сознания».
Что же касается Казакова, его взгляда на ребенка, то у него чувство родства и отцовства приобретает современную, незнаемую прежде окраску.
«В отцовстве, – писали М. Эпштейн и Е. Юкина, имея в виду Казакова, – по-новому проявляет себя чувство рода: некогда уязвленное и почти отринутое, оно теперь восстановилось, но стало очень личностным и обращенным скорее вперед, чем назад, – к детям, а не предкам. Ребенок становится нравственным центром семьи, в нем – надежда на приобщение к такой истине в ее истоках, которая раньше черпалась в заветах старины. И потому у отца к ребенку такое же отношение духовной зависимости и пиетета, как прежде – у ребенка к отцу. Герой Казакова в детстве не имел своего духовного и физического пристанища, он воспитывался не семьей, а войной; отсюда – жадное внимание к своему ребенку, к его опыту, наиболее первичному, являющему как бы исконный лик рода, который нельзя уже разглядеть в прошлом, во мгле немирных времен. Исторический опыт сиротства, который нельзя вычесть из современности, сказывается в том, что полнота и святость родовой жизни ощутима скорее в детях, чем в дедах, отнятых драмами минувших десятилетий».
В последних рассказах Казакова действительно остро ощутим «исторический опыт сиротства» – не просто в личном, биографическом плане. Мотивы собственного детства непрошено врываются в казаковское повествование, обнажая его трагический подтекст, но звучат они скорее глухо, как отголоски отшумевших социальных бурь…
В рассказах «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал» торжествует очистительное, возвышающее человеческую душу страдание, – они и скорбны, и мажорны. Пронизывающее их авторское чувство напоминает чувство религиозное, включающее в себя и ощущение мировой беспредельности, и ощущение тесной связи людей между собой, почитание рода, семейного очага, и ощущение таинственности неподвластных нашему разуму природных сил и явлений.
Когда-то об этих чертах религиозного сознания рассуждал, вспоминая своего отца и обращаясь к собственным детям, П. Флоренский, делавший при этом вывод, что «единственный лозунг, который может быть общим, общим всем людям, который дает правильное разумение нравственным заповедям и требованиям религии, который не ведет к ожесточению и нетерпимости», – это человечность. Именно она и только она достойна стать основанием подлинно гуманного вероучения. « Человечность , – писал П. Флоренский в своих воспоминаниях, – вот любимое слово отца, которым он хотел заменить религиозный догмат и метафизическую истину. В человечности видел он всеобщий регулятор всех общественных и личных отношений, взамен религий, права и морали, – единственное, что должно быть проповедуемо и внушаемо». Думаю, такой взгляд, такое восприятие религии Казакову было и близко, и понятно.
Последние казаковские рассказы, по своей поэтической сути, не поддаются исчерпывающей расшифровке. Они многомерны и несводимы к какой-то одной смысловой или эмоциональной константе. Оркестровка, мелодика и образный строй этих рассказов позволяют уподоблять их симфонической классике, о чем писал Казакову один из читателей. Полагая, что «по своей форме, ритму и гармонии, а главным образом по своему напряженному духовному и философскому звучанию и по силе эмоционального воздействия» рассказ «Во сне ты горько плакал» приближается к музыкальным произведениям «великих старых мастеров», автор письма утверждал, что в казаковском рассказе ему слышатся те же раздумья о самом святом для человека, – те же темы жизни и смерти, любви и страдания, «темы о Боге (в самом высоком смысле этого слова и его философского содержания), темы непостижимости и тайной мудрости детского взгляда…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: