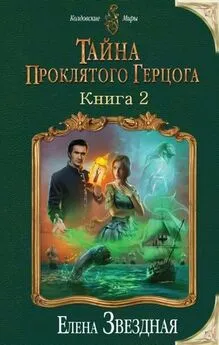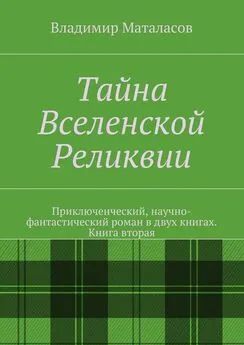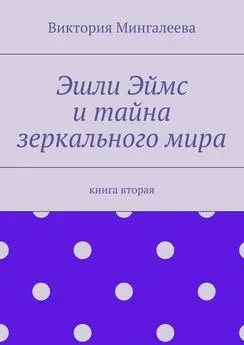Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам
- Название:Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Эффект фильм»59cc7dd9-ae32-11e5-9ac5-0cc47a1952f2
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4425-0012-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам краткое содержание
О Маяковском писали многие. Его поэму «150 000 000» Ленин назвал «вычурной и штукарской». Троцкий считал, что «сатира Маяковского бегла и поверхностна». Сталин заявил, что считает его «лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи».
Сам Маяковский, обращаясь к нам (то есть к «товарищам-потомкам») шутливо произнёс, что «жил-де такой певец кипячёной и ярый враг воды сырой». И добавил уже всерьёз: «Я сам расскажу о времени и о себе». Обратим внимание, рассказ о времени поставлен на первое место. Потому что время, в котором творил поэт, творило человеческие судьбы.
Маяковский нам ничего не рассказал. Не успел. За него это сделали его современники.
В документальном цикле «Главная тайна горлана-главаря» предпринята попытка взглянуть на «поэта революции» взглядом, не замутнённым предвзятостями, традициями и высказываниями вождей. Стоило к рассказу о времени, в котором жил стихотворец, добавить воспоминания тех, кто знал поэта, как неожиданно возник совершенно иной образ Владимира Маяковского, поэта, гражданина страны Советов и просто человека.
Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А поэту-футуристу Николаю Бурлюку вновь пришлось менять военную форму – в апреле Одессу опять взяли красные, и он ещё целый месяц служил в Красной армии. Кажется, что именно об этом он писал ещё в царское время:
«К весне, когда всё так стыдливо,
Ты с первым солнечным лучом,
Как мальчик лавки с калачом,
На талый лёд глядишь пытливо.
И если в город опрокинет
Тумана ёмкая скудель,
Поверь, заботливый апрель
Осколки скроченныя вынет».
В середине апреля 1919 года чекист Мартын Иванович Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), ставший главой Всеукраинской ЧК, опубликовал в киевской газете «Красный меч» статью, в которой, в частности, утверждал:
«Для нас нет и не может быть старых устоев морали и „гуманности“, выдуманных буржуазией для угнетения и эксплуатации „низших классов“. Наша мораль новая, наша гуманность абсолютная, ибо она покоится на светлом идеале уничтожения всякого гнёта и насилия. Нам всё разрешено…
Жертвы, которых мы требуем, жертвы спасительные, жертвы, устилающие путь к Светлому Царству Труда, Свободы и Правды».
Прочитав эту статью, левый эсер Яков Блюмкин тотчас явился в киевскую губчека и направился прямо к своему старому дружку Мартыну Лацису. Тот с радостью его встретил. Убийцу Мирбаха допросили и отправили в Москву, а там В ЦИК организовал Особую следственную комиссию, которой было поручено рассмотреть дело Блюмкина.
Поэты и власть
10 апреля 1919 года Нестора Махно избрали почётным председателем Гуляйпольского Совета. К этому времени видный московский анархист Иуда Соломонович Гроссман-Рощин (тот самый, с которым Маяковский познакомился и подружился в «Кафе поэтов») уже перебрался на Украину и стал работать в штабе махновцев, помогая батьке составлять его речи. Нестор Иванович называл Гроссмана «звездой среди молодых теоретиков анархизма», хотя и считал, «что он, Рощин, страшно бесшабашный».
Держа в первой половине апреля очередную речь перед односельчанами, Махно сказал, что советская власть изменила «октябрьским принципам», а захватившая власть партия большевиков «оградила себя чрезвычайками». Нестор Иванович потребовал свободы слова, печати и собраний для всех левых партий и групп, отказа от диктатуры большевистской партии и свободных выборов в Советы трудящихся крестьян и рабочих. Это, конечно, не могло понравиться большевикам. Но 15 апреля Махно вернулся на Южный фронт, где продолжил командовать повстанческой бригадой, которая входила в состав 3-ей Украинской советской армии.
Рощин-Гроссман наверняка поддерживал связь с Москвой, а с Маяковским состоял в переписке. Но ни одно его письмо опубликовано не было, так как высказывания анархиста и идеолога махновщины подорвали бы авторитет «поэта революции», как стали называть Маяковского, начиная с середины 30-х годов прошлого века.
А весной 1919 года в одном из московских кафе двое мужчин в кожаных куртках вступили в беседу с членами «Ордена имажинистов». Поэт Матвей Ройзман, недавно избранный секретарём этой литературной группы, собрался было уйти, но Есенин сказал ему:
«– Останься! Тебе пора знать изнанку жизни».
Ройзман остался. И через много лет написал в воспоминаниях, что один из пришедших мужчин стал рассказывать о том…
«… как на фронтах гражданской войны белогвардейцы пытают наших красногвардейцев, вырезая на их груди красные звёзды».
Потом речь пошла о том, что Белую гвардию поддерживают священники православных храмов и даже монашки из Страстного монастыря.
«– Я ненавижу всё духовенство, начиная с патриарха Тихона, – заявил Есенин, чуточку пригнувшись к столику. – Л этих сытых дармоедок в чёрных рясах повыгонял бы вон голыми на мороз!»
Кто-то из имажинистов вспомнил о том, как футуристы (Давид Бурлюк, Василий Каменский и Владимир Маяковский) разрисовывали монастырские стены футуристическими картинами. Есенин тут же сказал, что он…
«… считает нужным ударить но Страстному монастырю, чтоб прекратить антисоветские выпады…
– Мог же Бурлюк своими скверными картинами украшать улицы Москвы? – закончил он».
И имажинисты стали готовиться.
А чем занимался тогда Владимир Маяковский?
Художник Николай Фёдорович Денисовский (ему было всего 18 лет, и он учился в Высших художественно-технических мастерских или во Вхутемасе, как стало называться бывшее Строгановское училище) впоследствии вспоминал:
«Был канун 1 мая 1919 го-да. Не спали несколько суток, украшая город к празднику. Вечером сказали, что приедет Маяковский, и сотни сонных, усталых вхутемасовцев пришли, как один, точнее, чем на занятия, чтобы ещё и ещё раз слушать своего поэта. Грандиозный зал трещал от втиснувшихся в него вхутемасовцев. Сидеть было не на чем. Все стояли. Над морем голов возвышался Маяковский. Он читал третий час. Но просили ещё и ещё».
На следующий день, 1 мая, в московском Дворце искусств состоялся вечер «Праздник труда», на котором читали свои стихи Константин Бальмонт, Сергей Есенин и Марина Цветаева.
30 апреля красные взяли Баку, и 1 мая Сергей Миронович Киров (председатель временного революционного комитета Астрахани) сказал об участвовавшей в сражениях Ларисе Рейснер:
« Она у нас особая. Как нежный мотылёк, плавает среди мо – ряков и вдохновляет их на боевые подвиги!»
Другой видный большевик, Григорий Константинович Орджоникидзе, к этому добавил:
«Если бы Азербайджан имел такую женщину, как Лариса Михайловна, поверьте, восточные женщины давно побрасали бы свои чадры и надели их на своих мужчин».
А имажинисты всё рвались перейти в наступление. 4 мая киевская газета «Борьба» напечатала статью Григория Колобова «О новом искусстве». В ней, в частности, говорилось:
«Сейчас, когда творится новая жизнь и тысячелетняя паутина и плесень сметены революцией…на горизонте русской литературы видим силуэты уходящих „старцев“ и приходящих новых творцов образов, красок и звуков. Это С.Есенин, Р.Ивнев и совсем ещё молодой и кривляющийся от молодости, как раскрашенный паяц, А.Мариенгоф. Русская литература временно пребывает в летаргическом сне, но живая вода живых сил воскресит её, и уже слышатся громкие стуки:
"Перед воротами в рай
Я стучусь:
Звёздами спеленай
Телицу-Русь.
Колобов привёл четверстишие из стихотворения «Преображение».
Комфуты ответили имажинистам сборником «Всё сочинённое Владимиром Маяковским». Он вышел в середине мая в Петрограде с посвящением « Лиле » и со словами в предисловии: «Оставляя написанное школам, ухожу от сделанного и, только перешагнув через себя, выпущу новую книгу».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: