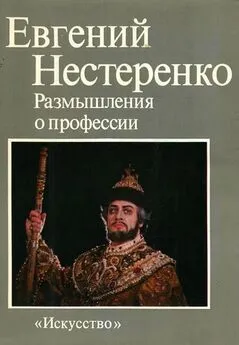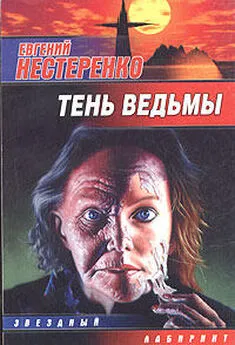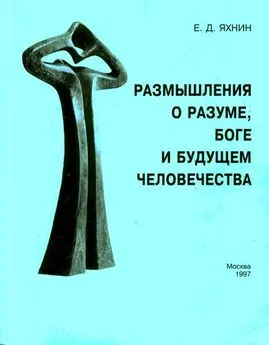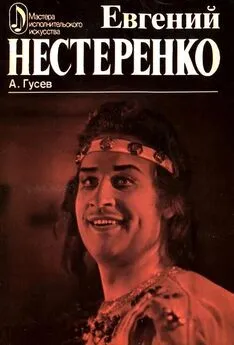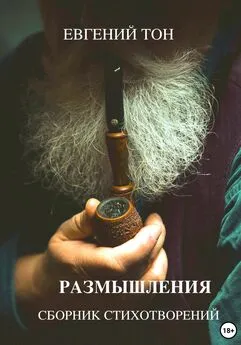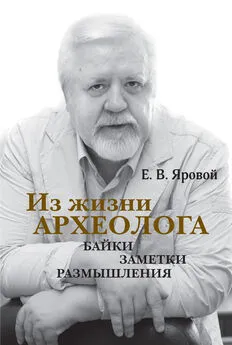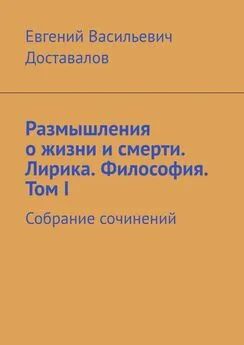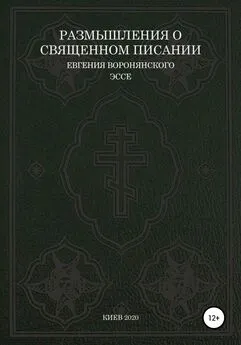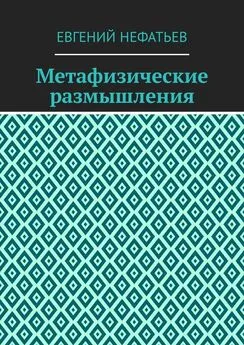Евгений Нестеренко - Размышления о профессии
- Название:Размышления о профессии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Нестеренко - Размышления о профессии краткое содержание
Книга народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, профессора Е. Е. Нестеренко рассказывает о работе певца-актера, о своеобразии этой сложной профессии. Автор вспоминает о своих творческих встречах со многими крупными советскими и зарубежными композиторами, режиссерами, дирижерами и исполнителями. Большой раздел в книге посвящен педагогике.
Размышления о профессии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иногда я все же пытался гримироваться сам, но волнение перед большой ролью и нервозность, когда что-то не получается, заставили меня от этого отказаться. Теперь не только в Большом театре, но и в театрах, которые мне хорошо знакомы и где я часто выступаю, — «Ла Скала», Венская опера, Мюнхенская опера, «Ковент-Гарден», театр «Эстония» — я пользуюсь услугами гримеров, которых также хорошо знаю и которым доверяю. Если же я приезжаю в театр впервые, особенно когда не требуют, чтобы обязательно выполнялся грим данного театра, я гримируюсь сам, используя свой опыт и знания, полученные от наблюдения за работой наших мастеров.
Федор Иванович Шаляпин, как известно, прекрасно гримировался сам — его грим был не просто работой гримера, но работой выдающегося художника, у которого одновременно с изменением при помощи красок и наклеек черт лица происходила основательная, глубокая душевная перестройка. Некоторые артисты, подражая Шаляпину, пытаются гримироваться сами, но большинство из них делает это совершенно напрасно. Не обладая талантом живописца и скульптора, как Шаляпин, не выработав настоящей профессиональной гримерской техники, они владеют этим искусством хуже профессионала.
Анна Ивановна Балашова, которая гримирует меня в Большом театре, — изумительный мастер. С ней мы в новых ролях долго ищем внешний образ: она предлагает свое, я высказываю мои соображения, и в итоге вырабатывается тот вариант, который и признается окончательным. Грим ее выразителен, превосходно выполнен, учитывает особенности строения моего лица и всегда соответствует духовной сущности персонажа. Она — полноправный соавтор моих ролей.
Обо всем этом я говорю для того, чтобы подчеркнуть: необходимо выработать собственную манеру работы над ролью, а не копировать слепо и не задумываясь образ действия своих предшественников.
Разбирая работу оперного певца над внешним образом роли, надо особо остановиться на мимике. Оперный артист, как я уже говорил, даже от зрителя первых рядов удален, что уж говорить о публике последних рядов партера, лож и ярусов! И вот, быть может, даже не отдавая себе в том отчета, некоторые актеры стараются выражать эмоцию скорее с помощью различных жестов и поз, чем мимикой, а мимика у них больше отражает усилия от пения.
Странно видеть вокалиста, который всегда, неизменно от того, что он исполняет, во время пения помогает себе одной или двумя вытянутыми руками. Причем в большинстве случаев жестикулируют так: когда поют — рука идет вперед, молчат — рука опускается. Я видел в одном спектакле, как два тенора пели, размахивая обеими руками. Потом, по ходу действия, им надо было снять шлемы. Одна рука оказалась занятой, но каждый из них теперь активно «подгребал» другой рукой. Это было комично и удивительно. Ведь на сцене воспроизводятся разные душевные и физические состояния. В жизни положение нашего тела, осанка, походка, жесты во многом зависят от нашего внутреннего состояния. Иногда мы вытягиваем руки, активно жестикулируя, иногда руки опускаются вдоль тела, иногда мы на что-то опираемся, иногда стоим прямо, а порой сгибаемся под тяжестью переживаний или мыслей. Опера воплощает жизнь людей. Так почему же тогда в ней движения порой выражают не физическое и душевное состояние человека, а сводятся к однообразному и назойливому жестикулированию? Это нелепо и абсолютно неприемлемо.
Но, с другой стороны, нужны ли в опере тонкие мимические нюансы? Подавляющему большинству зрителей они действительно не видны. Тем не менее, я считало, нужны. Внутренняя жизнь оперного персонажа должна отражаться и на голосе и на мимике, и самые тонкие движения души могут быть переданы зрителю и слушателю. Во-первых, зритель видит гораздо больше, чем можно предположить. Во-вторых, тонкие душевные движения, выражаемые только мимикой, сказываются и на голосе, на окраске звука. Между артистом, который естественно развивает жизнь духа своего героя на сцене, и зрительным залом протягиваются некие невидимые нити, в то время как певец, отчаянно жестикулирующий, сплошь да рядом контакта с залом найти не может.
У лучших представителей оперного искусства мы видим естественную, жизненную пластику. Приевшиеся атрибуты так называемой «оперной игры» — стандартный набор жестов, движений и поз — у них отсутствует. Мне кажется, гораздо лучше, если в процессе репетиций режиссер будет добиваться от артиста тонкой мимической игры, как бы рассчитанной на крупный план кинокадра. Такая игра заставит артиста естественно чувствовать себя на сцене, естественно переживать, не разыгрывать в пении искусственных страстей, а эмоционально и голосом, и мимикой, и пластикой передавать содержание музыки.
Мимика у певца служит не только внешним выражением эмоций, она влияет и на тембр голоса. Если певец тянет ноту и мышцы его лица находятся в спокойном состоянии, то и звук никакой особенной окраски не имеет — он, так сказать, индифферентный. Если же на лице певца появляется гримаса страдания или улыбка, то и голос окрашивается соответствующим чувством. Вернее было бы это определить так: эмоция, которую вызвал в своей душе певец, состояние его духа отражается на мышечном аппарате, в частности, на лице, а соответствующее состояние лицевых мышц в свою очередь отражается на звуке.
Но на характере певческого тона сказывается не только состояние лицевых мышц. Когда артист испытывает ту или иную эмоцию, то весь его организм перестраивается на нее, и это мы слышим в звуке: гнев, например, вызывает более активное, мощное дыхание, нежность — более мягкое, боль, волнение делают дыхание прерывистым.
Затрудняюсь сказать, что заставляет меня делать паузы между словами в сцене галлюцинаций Бориса: «Ежели (пауза) в тебе (пауза) пятно (пауза) единое (пауза), единое случайно завелося (пауза), душа сгорит (пауза), нальется сердце ядом (пауза), так тяжко, тяжко станет (пауза), что молотом (пауза) стучит в ушах (пауза), укором (пауза) и проклятьем (пауза). И душит что-то (пауза), душит (пауза), и голова кружится (пауза), в глазах (пауза) дитя (пауза) окровавленное!» Конечно, композитор так написал. Бывает, что певец добросовестно и формально выполняет эти паузы, но не чувствует их физически как тяжелое, болезненное состояние организма, когда не хватает дыхания («душит что-то… душит… и голова кружится…»). Я понимаю, что означают эти паузы, но мне кажется, выполняю их не потому, что так написано композитором, а потому, что рассказ Шуйского, напряжение и жуть, выраженные в музыке, действительно привели мой (и Бориса) организм в такое состояние, когда пересыхает горло и воздуха не хватает — какое тут, к черту, бельканто! — и получается правда жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: