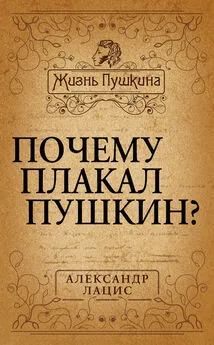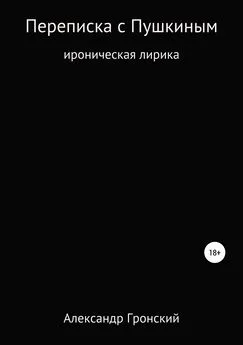Александр Лацис - Почему плакал Пушкин?
- Название:Почему плакал Пушкин?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0408-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лацис - Почему плакал Пушкин? краткое содержание
Лоббист во многом парадоксальных догадок в исследовании жизни и творчества А. С. Пушкина, Александр Лацис (1914–1999) принадлежит к клану неопушкинистов. Он впервые обнародовал гипотезу о родстве Пушкина и Троцкого, занимал антиершовскую позицию по поводу авторства знаменитой сказки «Конек-горбунок», а также внедрял версию о том, что дуэль поэта с Дантесом на самом деле была самоубийством.
В настоящей книге в увлекательной форме развернут поиск явного Пушкина, раскрываются «темные места» пушкинских текстов, выявляются новые факты и эпизоды из жизни поэта, затененные раньше, как и черты пушкинского характера.
Почему плакал Пушкин? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1821 году, примерно через год-полтора после появления рассказа Эрнста-Теодора Гофмана «Дож и догаресса», увидела свет историческая трагедия Байрона. Равным образом и эта пьеса – «Марино Фальери, дож Венеции» – имелась в составе библиотеки Пушкина.
В рассказе Гофмана преобладает морской колорит. В трагедии Байрона действие не выходит за пределы дворца. Вот почему казалось несомненным, что побудительным толчком для возникновения пушкинских строк послужил рассказ.
И все же не место действия, а смысл происходящего – вот что в первую очередь должно привлекать наше внимание. И если под таким углом зрения обратиться к трагедии Байрона – обнаруживается близость нравственных воззрений двух поэтов – Байрона и Пушкина.
Их единомыслие наиболее заметно в написанном Байроном предисловии. По словам Байрона, история Марино Фальери драматичнее, чем любые сцены, которые можно пристроить к этой канве.
Далее Байрон сетует: авторы, писавшие о сем сюжете, не выходили из круга банальных рассуждений насчет старого мужа и молодой жены. Чему удивлялись подобные авторы? Тому, что столь крупная личность, да еще в зрелом возрасте, так сильно переживает, свирепо возмущается, жаждет отмстить клеветнику. Принято считать, что у него, у мужа, был необузданный нрав, неуправляемый характер.
Возраст тут ни при чем – возражает Байрон. В любом возрасте нестерпима безнаказанность оскорбления, величайшего, которое возможно нанести человеку, будь он принц или мужик.
«Вот уже четыре года, – говорит Байрон, – как я обдумываю эти события, и прежде, чем я достаточно обследовал источники, я тоже склонялся к тому, чтоб все происшедшее объяснять ревностью. Но не нашлось нигде указаний на то, что супруг действовал под влиянием ревности к жене: напротив того, он руководствовался уважением к ней, отстаивал ее честь. А также свою собственную, подкрепленную заслугами и высоким званием. Вот почему я решил держаться исторической истины».
«Подробности, в которые я вдаюсь, – продолжает Байрон, – показывают, до чего меня интересовал этот предмет. Удалась моя трагедия или нет, во всяком случае я пересказал исторический факт, достойный памяти людской».
Теперь познакомимся с монологом дожа из первого действия трагедии Байрона (перевод Г. Шенгели):
Наглец и трус, оправданный мерзавец,
…наисвятую долю чести мужа,
Оклеветав, предал молве презренной, –
Чернь изощряться будет в грязных толках,
В бесстыдных шутках, в поношеньях гнусных;
А знать, с улыбкой утонченной, сплетню
Распустит, просмакует ложь, в которой
Я – ровня им, любезный рогоносец,
Терпящий…. нем, гордящийся позором!
Приведем еще один отрывок:
О да! я зла не выместил на бедной
Невинной женщине, столь очерненной,
……………………………. я не мстил ей
За мерзостный навет клеветника;
Я ждал суда страны моей над ним,
Какого вправе ждать любой бедняк,
Кому нужна жены любимой верность,
Кому очаг его семейный дорог,
Кому честь имени дороже жизни,
Кому дыханье клеветы и лжи
Все это отравило!
Не стремился ли переводчик – вольно или невольно – сблизить текст своего перевода с судьбой Пушкина?
Тут иная зависимость. Чем точнее русский перевод, чем ближе он к английскому оригиналу, тем полнее он передаст чувства, которые владели Пушкиным в последний год его жизни.
Но откуда, собственно, видно, что наш поэт действительно читал трагедию Байрона и предисловие к ней? Мало ли какие книги имелись в составе библиотеки Пушкина.
В том же предисловии Байрон упоминает пьесу Джона Вильсона «Город чумы» и отличает ее, как прекрасный материал (Байрон это слово выделяет тем, что пишет его по-французски) для трагедии.
В 1830 году, в дни болдинской осени, именно так – как к материалу – и обратился к пьесе Вильсона Пушкин. Отчасти перевел, отчасти создал заново «Пир во время чумы».
Либо мы должны допустить множество совпадений, либо остается предположить вслед за комментарием Д. Якубовича (1935), что Пушкин читал предисловие Байрона.
Если томик Байрона был внимательно прочтен Пушкиным – это не значит, что, кроме него, никто предисловие не читал. Иначе чем объяснить совпадения другого рода, совпадения в действиях, направленных против Пушкина?
Напомним некоторые связанные с Марино Фальери факты.
Микеле Стено, молодой патриций, распустил гнусную клевету на ни в чем не повинную супругу старого дожа. Разница заключалась лишь в том, что пасквильная надпись не рассылалась, а была вырезана на спинке кресла дожа во дворце Совета Десяти. Клеветник остался практически безнаказанным. (Сопоставьте: француза-кавалергарда всего-навсего перестали приглашать на приемы в Зимний дворец.) За сим последовали тщетные усилия старого дожа. Ему не удалась попытка отмстить за бесчестие своими средствами, выходящими за рамки законности. А в результате – трагическая гибель дожа.
Итак, если свести воедино все, что известно о доже Марино Фальери, то этот сюжет сближается с событиями последнего года жизни поэта.
Утверждают, что стихи о старом доже были начаты осенью 1833 года. Верно, что Левушка Пушкин, к которому попал черновой листок, заложенный в какой-то словарь, в то время находился в Петербурге. Но был он там и летом тридцать четвертого года и летом тридцать шестого.
Рассмотрим возможный ход развернувшихся в Петербурге событий. Некий хитроумный интриган вынашивал планы гибельных ловушек. Он стремился заранее предугадать наиболее вероятные ответные действия Пушкина. Обдумывая подробности предстоявшей травли, не сверялся ли он с все тем же предисловием Байрона? Не усмотрел ли в этом предисловии свод правил, своего рода ключ к поведению нашего поэта?
Подобная версия поначалу кажется слишком сложной. Но разве не было среди современников Пушкина людей, отвечающих следующим приметам?
1. Достаточная образованность, знание языков, немалая начитанность, привычка к бумагомаранию.
2. Сообразительность, усердие, способность к расчету.
3. Отсутствие нравственных устоев.
4. Небеспричинная враждебность к Пушкину.
5. Обеспеченная защищенность от любых судебных и полицейских преследований.
Трагедия Байрона и предисловие к ней были доступны не только сравнительно небольшому числу читающих по-английски. За 15 лет, начиная с 1821 года, в Париже появилось не менее шести французских изданий. Превосходный переводчик Амадей Пишо пренебрег рифмой, но зато передал все оттенки смысла. А свободно читать по-французски мог чуть ли не каждый дворянин, и не только дворянин.
Похоже, что мы напали на след. Однако нелегко определить, на чей именно. Зато проступают черты далекого друга. Где Пушкин находил понимание и поддержку?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: