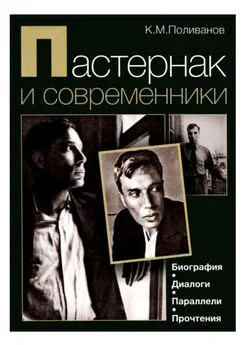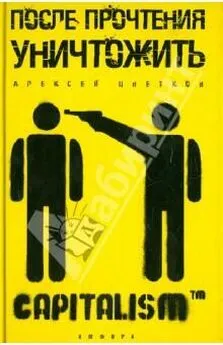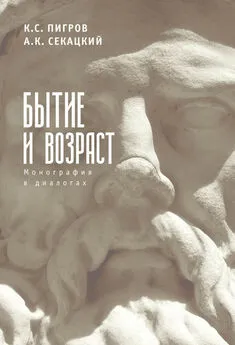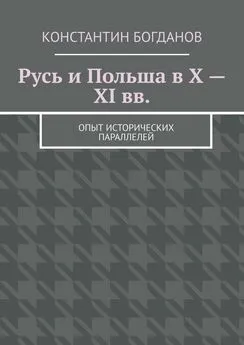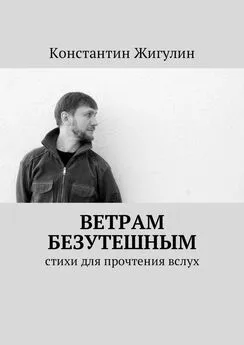Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения
- Название:Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-7598-0361-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения краткое содержание
В сборник включены работы, посвященные биографии и творчеству Бориса Пастернака, исследованию связей его творчества с эпохой, современниками, предшественниками. Читателям предлагаются интерпретации стихотворений, малоизвестные факты биографии, рассматривается отражение в литературных произведениях отношений Пастернака и Цветаевой, Маяковского, Ахматовой и Мандельштама. Все работы основаны на принципе пристального чтения произведений Пастернака на фоне его биографии, творчества, современной и предшествующей поэзии.
Для филологов и историков русской культуры, а также для всех интересующихся русской литературой XX века.
Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еще одной существенной тенденцией, прямо связанной с вышеназванными, характерной не только для русской, но и для всей европейской культуры рубежа веков, было появление значительного числа повествований (романов, повестей, поэм и пр.), героем которых выступает писатель, поэт, художник.
Именно в этой ситуации возникает сознательное художественное жизнестроительство – художники выстраивают свою жизнь по законам литературного текста в соответствии со своими эстетическими воззрениями. Разумеется, не все факты конкретной жизни укладывались в подходящую схему, но при определенном желании одни события своей реальной жизни можно было сделать более известными, а другие постараться скрыть. Так, о конкретных обстоятельствах поездки и пребывания Мережковского, Гиппиус и Философова в Париже в 1905–1906 годах (вся эта поездка втроем совершалась как декларативно «жизнестроительный» шаг) московские и петербургские друзья и читатели извещались именно в такой степени подробности, насколько это отвечало «замыслу» З. Н. Гиппиус [88].
Понятно, что в этой ситуации обстоятельства собственной биографии художники начинают значительно выраженнее, акцентированнее, чем прежде, вводить в свои тексты (письменные). Вспомним здесь блоковские «Балаганчик» и «Соловьиный сад» (а в значительной степени и «Розу и крест»), брюсовского «Огненного ангела», «Серебряного голубя» Андрея Белого (куда, как показано в новейших работах Александра Лаврова и Владимира Топорова, тщательно вплетены перипетии взаимоотношений Белого с Мережковским, Блоком, Любовью Дмитриевной Менделеевой-Блок и Сергеем Соловьевым) и целый ряд других текстов Серебряного века.
В случаях же, когда биографические обстоятельства по самому жанру описывались непосредственно – в автобиографических сочинениях и мемуарах, это художественное осмысление событий уже на их «дописьменном» уровне, естественно, давало себя знать в создававшихся текстах. При таком понимании законов возникновения мемуарных и автобиографических текстов, писавшихся художниками рассматриваемой эпохи, становится заведомо некорректным упрекать мемуаристов в несоответствии их произведений той «реальности», которую мы можем восстановить из других источников, – уже сама описываемая реальность была «построена» по законам искусства, все, что не соответствовало эстетической программе участника событий, заранее устранялось из поля рассмотрения, а при необходимости что-то могло и домысливаться, «вставляться» в саму ситуацию ее участником – «художником жизни».
Вспомним здесь знаменитый «марбургский эпизод биографии» Бориса Пастернака. Будущий поэт приезжает в мае 1912 года слушать лекции по философии профессора Германа Когена и его ближайших сотрудников Пауля Наторпа и Николая Гартмана, месяц спустя Пастернака в Марбурге навещают сестры Высоцкие, в старшую из которых – Иду – он давно был влюблен. Через некоторое время сестры уезжают в Берлин. Пастернак, проводив их до Берлина, возвращается в Марбург и продолжает достаточно успешно свои философские штудии. Именно тогда состоялись его успешные выступления в семинарах Наторпа, Гартмана и Когена. Далее, в дни подготовки к когеновскому семинару приходит письмо из Франкфурта от двоюродной сестры Ольги Фрейденберг с приглашением навестить ее (с Ольгой Пастернака также связывали долгие и сложные романические отношения). Пастернак, несмотря на предстоящее выступление в семинаре, отправляется во Франкфурт, но здесь, используя позднейшее выражение Марины Цветаевой, происходит его «невстреча» с двоюродной сестрой – они оба расстаются недовольные собой и друг другом. Наконец, уже после выступлений у Когена Пастернак совершает из Марбурга поездку в курортный Киссинген, где проводили лето его родители с младшими детьми и где Пастернак вновь сталкивается с Высоцкой. И наконец, по возвращении из Киссингена Пастернак узнает о том, что пропустил обед у Когена (приглашение на который было знаком признания мэтром успешности философских занятий студентов). Тут-то приходит окончательное решение оставить философскую карьеру и обратиться к искусству – поэзии.
Последовавшее затем путешествие из Германии в Италию Л. Флейшман назвал «символическим переездом из философии в искусство» [89]. Быть может, сам Пастернак, художественно осмысляя происходившие с ним события (непосредственно в их «течении»), воспринимал этот переезд тогда же именно в его символической значимости.
Однако вернемся к происходившему непосредственно в Марбурге. Описывая лето 1912 года в повести «Охранная грамота», которая вся построена на автобиографическом материале, Пастернак видоизменяет последовательность и интерпретацию событий, которые только что были перечислены. По «Охранной грамоте» последовательность была следующей: приезд в Марбург, успешные философские занятия, приезд сестер Высоцких, объяснение с Идой, ее отказ (об этом же стихотворение «Марбург» и еще несколько связанных с ним именно мотивом судьбоносного объяснения с возлюбленной и отказа), затем проводы сестер в Берлин, по возвращении «разрыв с философией» и поездка к двоюродной сестре во Франкфурт вместо похода к Когену на обед.
С одной стороны, мы здесь, конечно же, имеем дело с вполне естественной перегруппировкой описываемых событий, «динамизации», «драматизации» которых требуют законы создания художественного текста, пусть даже и основанного на реальных обстоятельствах. Но не следует забывать, что «героиня» марбургского лета – Ида Высоцкая, правда, много лет спустя утверждала, что ничего похожего на объяснение и отказ в их взаимоотношениях с Пастернаком в Германии в 1912 году не было вовсе.
В то же время не следует думать, что весь любовный сюжет был сочинен Пастернаком для стихотворения «Марбург» или для «Охранной грамоты». Уже в письмах из Марбурга мы находим свидетельства тому, что и тогда он сам воспринимал происходившее именно так, как затем описал в своих текстах. Иными словами, мы могли бы здесь предположить, что уже и летом 1912 года все те события «встраивались» им в некоторый «художественный» (искусственный, литературный) ряд, и то, что в рамках его эстетической системы, по законам которой строился «жизненный текст», воспринималось как объяснение в любви, отказ и разрыв, его «партнером» могло просто оставаться незамеченным. Самому же Пастернаку требовалось связать знаменательный для него переход от философии к искусству не со своими желаниями, настроениями, размышлениями, вкусами, а с чем-то внезапным, решающим и трагическим, и разрыв с возлюбленной как нельзя лучше подходил для этого, снимая ощущение «неловкости» от очередной перемены «профессиональной» ориентации (вспомним, что в «Охранной грамоте» Пастернак писал о том, как он во время своего обучения на философском отделении в университете скрывал свои занятия стихотворством как признаки «нового несовершеннолетиям).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: