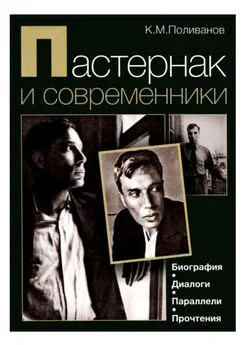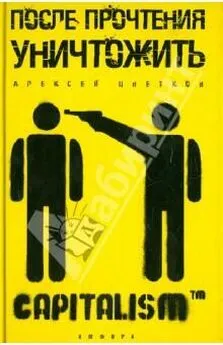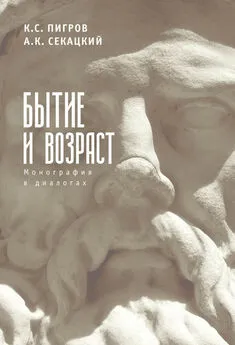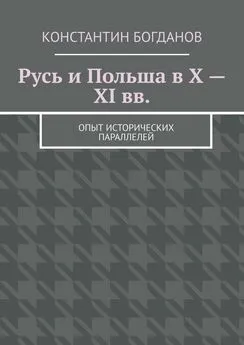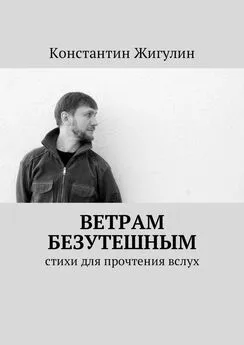Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения
- Название:Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-7598-0361-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения краткое содержание
В сборник включены работы, посвященные биографии и творчеству Бориса Пастернака, исследованию связей его творчества с эпохой, современниками, предшественниками. Читателям предлагаются интерпретации стихотворений, малоизвестные факты биографии, рассматривается отражение в литературных произведениях отношений Пастернака и Цветаевой, Маяковского, Ахматовой и Мандельштама. Все работы основаны на принципе пристального чтения произведений Пастернака на фоне его биографии, творчества, современной и предшествующей поэзии.
Для филологов и историков русской культуры, а также для всех интересующихся русской литературой XX века.
Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Можно отметить, что сокращения первой редакции шли по пути изъятия из произведения целых смысловых блоков, а также (как отметила О. Раевская в связи с вариантом 1926 года) оба сокращенных варианта первой редакции приближаются к новой редакции 1928 года.
Первый сокращенный вариант новой редакции появился в избранных 1933 и 1934 годов. Он состоял из 13 строф: с 1-й по 4-ю, с 9-й по 12-ю и с 16-й по 20-ю. В избранном 1945 года были исключены только две строфы – 14-я и 15-я. В избранное 1948 года вошел самый короткий вариант, всего из 11 строф: 1–4, 9–12, 16, 19–20. Для избранного 1956 года Пастернак приготовил вариант из 14 строф: 1–4, 9–13, 16–20 [161].
Несомненно, стихотворение «Марбург» было для Пастернака очень важным произведением, если он включал его в каждый избранный сборник и при этом каждый раз дополнительно редактировал. Для этого были понятные причины – именно в Марбурге Пастернак решил, оставив философию, обратиться к литературе. Причиной этого выбора послужили те обстоятельства, которые так или иначе отразились в стихотворении, – разрыв с возлюбленной и ощущение себя «вторично родившимся». Соответственно, если в избранном сборнике Пастернак стремился представить историю своего поэтического пути, то «Марбург» был одной из точек отсчета начала этого пути. Но, вероятно, и само построение стихотворения, связанное с представлениями автора о взаимосвязи жизни, искусства, человека, поэта и природы, было ему не менее важно. В кратких версиях неизменно сохранялись важнейшие особенности композиции «Марбурга», которые мы опишем ниже.
О. Раевская и Л. Флейшман обратили внимание на принципиальное отличие композиции первой редакции от второй. Тематические линии располагаются в редакции 1928 года не в строфах, следующих последовательно друг за другом, а как будто перебивают одна другую. Скажем, объяснение с возлюбленной, целиком описанное в первой редакции в первых четырех строфах, в новой редакции помещается в 1-й, 12-й и 16-й строфах. Взгляд на Марбург глазами «вторично родившегося» [162]изображен в строфах 2–3, 8–10, 13 и 15. Заметим, что все эти строфы, кроме 8-й, сохранялись во всех сокращенных вариантах.
В редакции 1928 года четыре раза меняется способ рифмовки строфчетверостиший. Строфы 1–7 имеют рифмовку МЖМЖ, строфы 8–11 – рифмовку МДМД 12–16 – снова МЖМЖ, 17 – МДМД, и, наконец, 18–20 – ДМДМ. Таким образом, смена рифм женских на дактилические создает слышимое ощущение смены ритма, причем после появления нового ритма вновь возвращается прежний, и снова меняется, как будто они идут перемежая, перебивая друг друга, так же, как, то появляясь, то исчезая, чередуются разные темы стихотворения.
Такие «перескоки» с темы на тему вместе с ритмом, который меняется то в месте «перескока», то вроде бы независимо от содержания, могут имитировать сбивчивое, эмоциональное повествование. Этим можно объяснить и смену используемых в стихотворении глагольных времен. «Марбург» начинается повествованием в прошедшем времени (строфы 1–12), в следующих трех строфах (13–15) используется настоящее время (прошедшее в них появляется для описания событий, состоявшихся задолго до объяснения героя с возлюбленной, – жизнь в Марбурге Мартина Лютера, учеба там братьев Гримм, эпидемия чумы в окрестностях средневекового замка). В 16–17-й строфах речь идет о как будто бы предстоящих событиях, соответственно использовано будущее время, в 18-й строфе время настоящее и будущее и, наконец, в последних строфах (19–20) время снова настоящее.
Смена типов рифмовки и смена используемых глагольных времен сохраняются почти без изменений во всех сокращенных вариантах «Марбурга» – очевидно, Пастернаку это внутреннее членение стихотворения было достаточно важно.
Но, кроме передачи сбивчивой речи, такому построению стихотворения можно попробовать дать и иное объяснение. Напомним утверждение Б. Гаспарова [163], что необходимо искать следы музыкального образования Пастернака не только и не столько в упоминаемых им музыкальных терминах, произведениях и именах композиторов, сколько во внутреннем строении его произведений. В стихотворении «Марбург» мы можем постараться разглядеть как раз имитацию музыкальной формы, когда несколько тем звучат как будто одновременно, то появляясь, то исчезая и появляясь вновь. Смена ритма, создаваемая сменой типа рифмовки, задает соответствующее звучание, а перемежающиеся темы вместе со сменяющимися глагольными временами как будто повторяют этот же принцип, но уже не на «музыкальном» материале, а на словесном. Это построение, которое на бумаге имитирует принцип музыкального одновременного звучания нескольких тем, как будто иллюстрирует описанное в стихотворении явление, когда все в городе («каждая малость») живет параллельно своей жизнью, «не ставя ни во что» человека, который внутри этих жизней ходит, страдает, влюбляется и разочаровывается. Несомненно, что именно музыка из всех видов искусств лучше всего может изобразить одновременность отдельных жизней, сплетающихся в свою очередь в некий общий «хор» (вроде того, который описывает Л. Н. Толстой во сне Пети Ростова в «Войне и мире»). Стихотворение же «Марбург», как нам представляется, своей формой стремится эту «музыкальность» мира передать стиховыми и словесными средствами.
Приложение
Марбург(редакция 1916 года)
День был резкий, и тон был резкий,
Резки были день и тон —
Ну, так извиняюсь. Были занавески
Желты. Пеньюар был тонок, как хитон.
Ласка июля плескалась в тюле,
Тюль, подымаясь, бил в потолок,
Над головой были руки и стулья,
Под головой – подушка для ног.
Вы поздно вставали. Носили лишь модное,
И к вам постучавшись, входил я в танцкласс,
Где страсть, словно балку, кидала мне под ноги
Линолеум в клетку, пустившийся в пляс.
Что сделали вы? Или это по-дружески,
Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ?
К чему же дивитесь вы, если по мужески —
мне больно, довольно, есть мера длине,
тяни, но не слишком, не рваться ж струне,
мне больно, довольно – стенает во мне
Назревшее сердце, мой друг в матинэ?
Вчера я родился. Себя я не чту
Никем, и еще непривычна мне поступь,
Сейчас, вспоминаю, стоял на мосту
И видел, что видят немногие с мосту.
Инстинкт сохраненья, старик подхалим,
Шел рядом, шел следом, бок о бок, особо,
И думал: «Он стоит того, чтоб за ним
Во дни эти злые присматривать в оба».
Шагни, и еще раз, – твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез путаный, древний, сырой лабиринт
Нагретых деревьев, сирени и страсти.
Интервал:
Закладка: