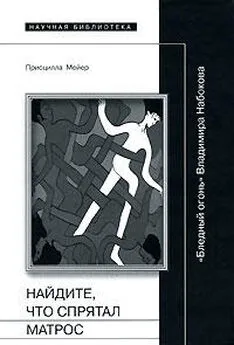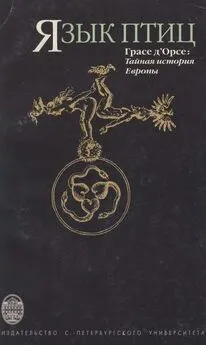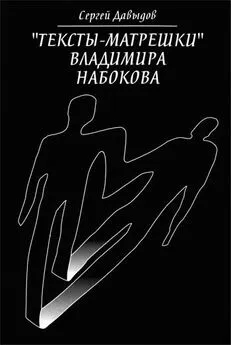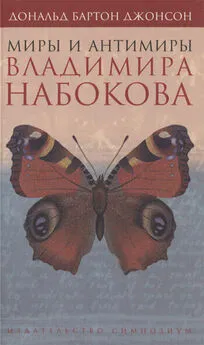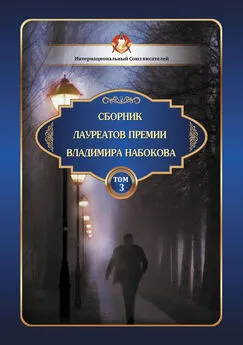Андреа Питцер - Тайная история Владимира Набокова
- Название:Тайная история Владимира Набокова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентСиндбад9c3da5be-9fab-11e3-8380-0025905a0812
- Год:2016
- Город:М
- ISBN:978-5-905891-66-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андреа Питцер - Тайная история Владимира Набокова краткое содержание
Отстраненный интеллектуал, чуждый состраданию и равнодушный к человеческой боли – таков сложившийся в массовом сознании образ Владимира Набокова. Филолог и литературный критик Андреа Питцер предлагает нам взглянуть на творчество мастера под совершенно новым углом. Исследуя прозу Набокова сквозь призму его биографии, отмеченной мировыми войнами, революциями, массовой эмиграцией, автор обнаруживает важнейшие детали, до сих пор ускользавшие от внимания читателей. Фрагмент за фрагментом кропотливо воссоздавая внешний и внутренний контуры личности писателя, Питцер заставляет нас увидеть нового, доселе неведомого Набокова – гения мистификации, спрятавшего в своих произведениях историю ужасов двадцатого века.
Тайная история Владимира Набокова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но разговора с Набоковым он еще не закончил. В книге «Окно в Россию», вышедшей осенью того года, Уилсон впервые обратился к творчеству Владимира в целом. В плане аналитических находок публикация не представляет особой ценности. Уилсон считает «Незаконнорожденных» садомазохистскими и признается, что так и не смог дочитать «Аду», но интересно его противопоставление «одного из солженицынских лагерей, откуда невозможно сбежать», с тем, как у Набокова персонажи спасаются от тюрьмы и смерти.
В другом посмертном издании, исправленном и дополненном «Финляндском вокзале», который увидел свет в августе, Уилсон все-таки пошел на уступки в том, с чего начались его разногласия с Набоковым. «Меня… обвиняли в чересчур благожелательном изображении Ленина, – пишет он в предисловии, – и критика эта, пожалуй, небезосновательна». Уилсон объясняет, почему первая версия книги получилась такой, какой получилась, и на нескольких следующих страницах признает, что личность Ленина на самом деле гораздо сложнее.
Спор с призраком Уилсона не сделал бы Набокову чести. Прохладная оценка, которую критик дал его творчеству, по сути, ничего для него не меняла; в пантеоне литературных небожителей Набоков одержал над Уилсоном верх. Но два года спустя, обсуждая с вдовой Эдмунда идею опубликовать их с Уилсоном письма, заметил: «Сами понимаете, как больно перечитывать послания, принадлежащие к ранней, светлой эпохе нашей переписки».
Впрочем, не все у Набокова с Уилсоном вызывало споры. Например, даже в последних письмах они сошлись во взглядах на известного автора, который восхищал обоих личными качествами, но не впечатлял художественным мастерством, – Александра Солженицына. В последнем письме, отправленном в «Монтрё-Палас», Уилсон отметил, что недостаткам Солженицына, пожалуй, не стоит удивляться, «ведь ему не о чем рассказывать, кроме как о своей болезни и своем заключении».
Приговор Уилсона вызывает недоумение, поскольку Солженицын не скрывал, что работает на стыке литературы и истории, а Уилсон всю жизнь посвятил анализу именно этого жанра. Впрочем, подобный отзыв мало что изменил; когда Эдмунд критиковал Солженицына, он уже не был законодателем мод в американской литературе, а за лагерным летописцем, напротив, стояла Нобелевская премия по литературе.
Между конфискацией солженицынского архива сотрудниками КГБ и триумфом в Стокгольме прошли долгие пять лет. Несколько месяцев Александр не мог оправиться от того, что казалось ему «главной катастрофой» жизни – более страшной, чем годы лагерей. Солженицын ругал себя за то, что растерял навыки выживания, благодаря которым его миновало столько опасностей. Если бы дело касалось только того, что знал он сам, это было бы еще полбеды. Но попасться теперь, когда столько людей пошли на страшный риск и рассказали ему свои истории, понимать, что истории эти в результате так и останутся нерассказанными, что соотечественникам так и не приведется посмотреть в глаза «миллионам погибших, тех, кто не дошептал, не дохрипел своего на полу лагерного барака», – это было ужасно. Александра даже посещали мысли о самоубийстве.
В итоге Солженицын решил стать как можно более публичной фигурой, надеясь, что так властям будет сложнее заставить его замолчать. В то же время он не желал поддерживать никаких инициатив, которые могли бросить тень на его историческую и литературную миссию. Солженицын, как и Набоков, не был «подписантом». Даже когда двух писателей-диссидентов осудили за слова их вымышленных персонажей, Александр не поставил своего имени под коллективным письмом с призывом освободить обвиняемых.
Встречаться с приехавшим в СССР Жан-Полем Сартром Солженицын тоже отказался. Объяснил, что ему, ограниченному в правах советскому писателю, трудно будет вести с французом свободный и равный диалог (хотя спутница Сартра, писательница Симона де Бовуар, полагала, что виной всему гордость и застенчивость Солженицына).
Под чужими петициями Солженицын подписываться не желал, но в 1967 году, накануне съезда Союза писателей, пустил по знакомым собственное письмо. Выступая против притеснений, он призывал избавить литературу от цензуры. С характерным для себя пафосом Солженицын писал о ставках в этой игре, которые он теперь поднимал еще выше: «Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы – еще успешнее и неоспоримее, чем живой». Письмо переходило из рук в руки и наделало много шуму. Солженицын получил письменную поддержку почти сотни литераторов. История облетела газеты всего мира.
Тем временем неопубликованные рукописи стали предметом жарких споров и обвинений: одни клеймили Солженицына как агента Запада, другие называли надеждой русской словесности. Редколлегия «Нового мира» по-прежнему не знала, что делать с его произведениями.
Солженицына вызывали на ковер секретариаты и комиссии, но везде он твердо гнул свою линию и – не прямым текстом, но вполне явно – говорил о кознях КГБ. Когда Александра пригласили на очередное собрание, чтобы окончательно решить вопрос о публикации первых глав нового романа, он уже шел на станцию, собираясь выехать поездом на Москву, но вдруг ни с того ни с сего передумал. Пускай сами разбираются, решил он, а вопросы задают жене, которая поедет в Москву вместо него. Он останется один, как можно дальше от людей, и будет писать .
Читатели понимали, что с такими публичными заявлениями, какие позволяет себе Солженицын, новых его произведений никто печатать не станет; но отсутствие публикаций привлекало к нему еще больше внимания. Редактор «Правды» выдвинул зловещее предположение, что Солженицын психически нездоров; пошел слух, что Александр сотрудничал с немцами во время войны. Бесконечно это продолжаться не могло. У Солженицына была единственная тема, и власти хотели эту тему закрыть. (Набокову, напротив, никто не мешал писать на ту же тему, но он делал это настолько завуалированно, что не каждый оказывался способен ее разглядеть.)
Слава исподволь меняла Солженицына; он проникался уверенностью, что может не только записывать историю, но и творить ее. Он обрел вес и влияние, которыми редко пользовались люди вне системы. Но это, как казалось некоторым друзьям и знакомым, не прошло для него даром – он утратил свою обезоруживающую скромность, став отстраненным и надменным.
Александру исполнилось сорок девять лет. Он дописывал «Архипелаг ГУЛАГ»; Наталья без устали перепечатывала рукопись на машинке. Супруги изготовили микрофильмы, которые потом с курьером отправили за границу. Потянулись дни мучительной неизвестности. Наконец Солженицыны с облегчением узнали, что курьер благополучно выехал из страны. «Раковый корпус», «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ» были в безопасности. Какую бы участь ни уготовила теперь история их автору – пусть даже гибель, но книги будут жить, и голос его заглушить не удастся.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: