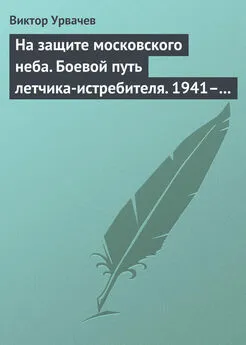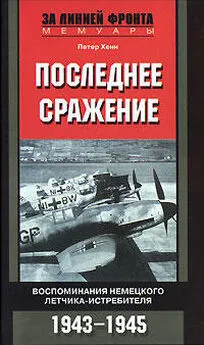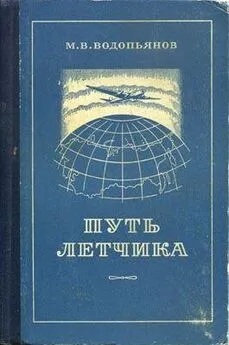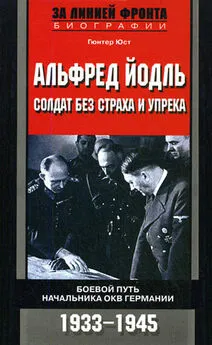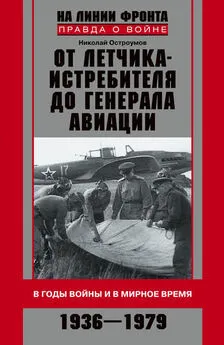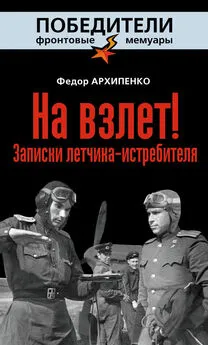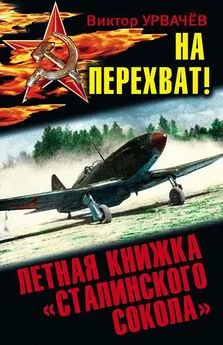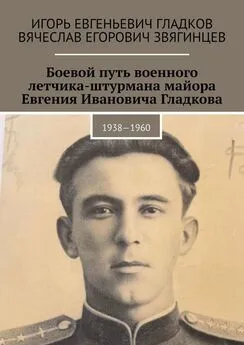Виктор Урвачев - На защите московского неба. Боевой путь летчика-истребителя. 1941–1945
- Название:На защите московского неба. Боевой путь летчика-истребителя. 1941–1945
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-06817-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Урвачев - На защите московского неба. Боевой путь летчика-истребителя. 1941–1945 краткое содержание
Представленная на суд читателя книга написана сыном военного летчика Георгия Николаевича Урвачева (1920–1996) – участника войн с Германией и Японией в 1941–1945 гг., в Корее – в 1952–1953 гг. и летчика-испытателя ВВС в 1954–1964 гг. В основу книги легли записи летной книжки Г. Н. Урвачева, другие официальные документы, а также его личные воспоминания. Основная часть записок посвящена летной и боевой работе Георгия Урвачева и его друзей-летчиков из 34-го истребительного авиационного полка, который с 1938 г. входил в состав противовоздушной обороны (ПВО) Москвы, а в 1945 г. был передислоцирован на Дальний Восток, участвовал в войне с милитаристской Японией. Главным испытанием для летчиков полка стала защита неба столицы, когда они вместе с другими истребительными авиационными полками ПВО Москвы в июле 1941 г. вступили в бой с превосходящим по силе, подготовке и оснащению противником. Тем не менее они выиграли воздушное сражение в небе Москвы. Официальный боевой счет героя этой книги – 4 лично сбитых самолета противника и 7 – в группе.
На защите московского неба. Боевой путь летчика-истребителя. 1941–1945 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Путь к новому месту базирования продлился почти месяц и сопровождался происшествиями, обычными для путешествий в нашем отечестве по железной дороге. И хотя командир полка предупредил, что «отставание от эшелона буду рассматривать как дезертирство из части» , уже через три дня он констатировал: «За время передвижения железнодорожным эшелоном контроль со стороны командиров подразделений ослаб, вследствие чего резко снизилась дисциплина и порядок личного состава, увеличилось число нарушителей <���…>. Все это ведет к подрыву боеспособности полка».
Командир отметил, что от эшелона уже отстали красноармеец Долотов во Владимире и сержант Маров в Горьком. Красноармеец, правда, на следующий день в Сормове догнал полк на попутном пассажирском поезде, но сержант «до сего времени в часть не явился» . А часовой старший сержант Нестеров не успел заскочить на подножку отходящего эшелона и остановил его «сигнальными выстрелами» из винтовки.
Мало того, капитан Герасимов, лейтенанты Лисогор, Матвеев и младший лейтенант Голубев напились пьяными, «вели себя нетактично» , а кое-кто «утерял облик офицера Красной Армии, хулиганил и грубил со старшими командирами» . А заступивший в это время на дежурство старший лейтенант Кузьменко, как выяснилось, тоже был пьян.
Командир полка приказал: «За 10 минут до отхода эшелона весь личный состав должен быть в вагонах, часовые на постах, начальник караула в караульном помещении. При движении эшелона из вагонов не высовываться, а на стоянках под вагонами не ходить» . И всем будет счастье. Затем командир произвел раздачу взысканий: офицерам и красноармейцу арест от двух до восьми суток; о сержанте дать телеграмму военному коменданту города Горького «на предмет ареста <���…> и отправки его в штрафную роту, как дезертира» . Стрелявшему часовому – выговор. Все, можно ехать дальше.
Но по прошествии двух недель командир полка вновь констатировал: «Вследствие слабой требовательности и отсутствия контроля офицерским техническим составом имели случаи выпивки и на этой почве хулиганские выходки и отставание от эшелона» . Далее кому выговор, кому арест, а старшего техника-лейтенанта Куценко «за слабую требовательность, отсутствие контроля и допущение выпивок в вагоне <���…> отстранить от исполнения обязанностей «Старшего по вагону» офицерского состава» . И в заключение: «Предупреждаю весь офицерский состав, что при повторении подобных случаев буду принимать самые строгие меры взыскания вплоть до отдачи под суд военного трибунала» .
Уделялось внимание не только поддержанию порядка, но и достойного облика путешествующих воинов. С этой целью, в частности, всему личному составу запрещалось «ходить не по форме одетыми – без шинелей, курток, головных уборов, ремней и погон» . Особо было запрещено «бойцам-девушкам ходить в летных комбинезонах» , а «мужчинам, за исключением руководящего состава, посещать вагон военнослужащих девушек».
Утром 6 мая в 5.45 полк прибыл на станцию Евгеньевка и проследовал на новое место базирования в Приморском крае – аэродром Хвалынка в шести километрах от г. Спасска-Дальнего. Через два дня, 9 мая, как отмечено в служебном журнале дневника, «полк был выстроен на утренний смотр, где услышал радостную весть о победе Красной Армии и об окончании войны с Германией. <���…> В честь такого дня личный состав надел лучшее свое обмундирование, на аэродроме была слышна музыка, <���…> был устроен общий обед» .
Подготовка к войне и негласные осведомители
На следующий день после окончания войны с Германией на общем построении полка с его личным составом познакомился гвардии полковник Суворов, командир 147-й истребительной авиационной дивизии, в состав которой вошел полк. Через три дня на первых собранных самолетах вылетели летчики из командного состава, и в их числе командир эскадрильи Урвачев:
«14.05.45. Ла-5, упр. 5, 47 КБП-45, 1 полет, 1 час 20 минут».
С 19 мая эскадрильи поочередно стали заступать на суточное боевое дежурство, а для офицеров лекция: «Маньчжурия – плацдарм Японии для нападения на Советский Союз». Вскоре после этого для руководящего летного состава и штабных офицеров занятия на тему: «Дислокация ВВС и летно-тактические данные самолетов Японии».
Одновременно шел облет самолетов после сборки, полеты по курсу боевой подготовки и по району дислокации с посадками на аэродромах других авиачастей. При этом сказывалось месячное отсутствие летной практики. Так, в одном из полетов лейтенант Дмитрий Никитин сделал такого «козла», как летчики называют грубую посадку, что у самолета отвалился фюзеляж: «Летчик невредим. Самолет разбит. Требует списания» .
Но, поднимаясь в воздух после долгого перерыва в полетах, даже опытные летчики иной раз начинали резвиться за границами НПП – Наставления по производству полетов. Так, заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Семен Гайдамако с лейтенантом Портновым на По-2 взлетел, «не дорулив» до старта и не получив разрешение руководителя полетов, закрутил на высоте 5 м (!) два разворота и на бреющем полете скрылся с глаз изумленной публики.
Получив за эту выходку строгое предупреждение от командира полка, Семен через два дня на том же По-2, но уже с Афанасием Ионцевым отлично выполнил учебное задание в зоне, но не на оскорбительной для боевого летчика-истребителя высоте 500 м, как было предусмотрено заданием, а на высоте 50 м. Командир полка майор Забабурин был вне себя: «Нарушителям дисциплины, правил полетов и воздушным хулиганам не должно быть места» и приказал предать Гайдамако суду офицерской чести.
Но через месяц для него место все-таки нашлось. По приказу командования в истребительных авиаполках были созданы специальные звенья разведчиков, и Семен, оставаясь заместителем командира эскадрильи, стал еще и командиром такого звена, в состав которого вошли участники его проделок на По-2 Ионцев и Портнов, а также Лисогор. В соответствии с этим приказом в каждой эскадрилье полка была также назначена пара летчиков-охотников: Шишлов – Жихарев, Зуйков – Соловьев и Тихонов – Захаров. Видно, что многие вчерашние летчики-сержанты окончательно «встали на крыло».
А в это время на аэродром Спасский начали поступать и собираться самолеты нового типа, которые затем перегонялись в полк. На одном из них прилетел и капитан Урвачев:
«13.06.45, Ла-7. Перегон самолета Спасск – Хвалынка, 1 полет, 15 мин».
Через три недели в боевой состав полка был зачислен 21 самолет Ла-7.
Самолеты этого типа считаются лучшими советскими истребителями времен войны, имели максимальную скорость 680 км/ч и мощное вооружение – 3 пушки калибром 20 мм. Вместе с тем они страдали болезнью всех самолетов с двигателями воздушного охлаждения – высокой температурой в кабине. Вернее, страдали летчики – летом температура в кабине поднималась до 50°, что, конечно, лучше, чем на Ла-5, где она достигала 60°.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: