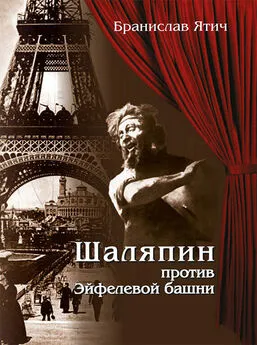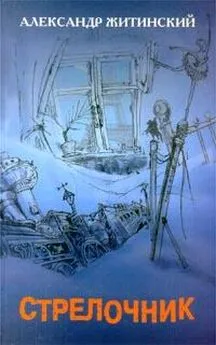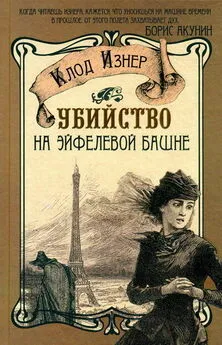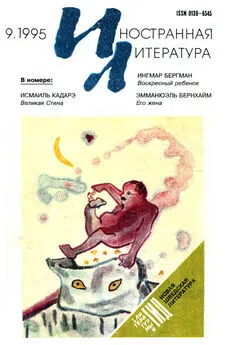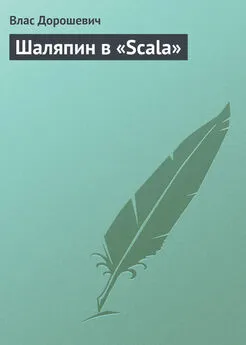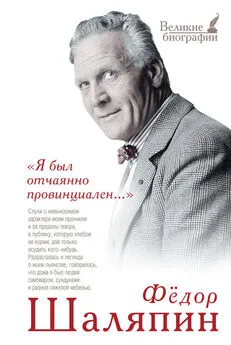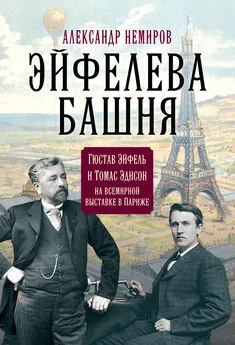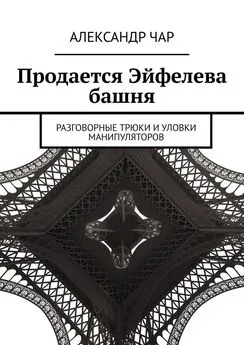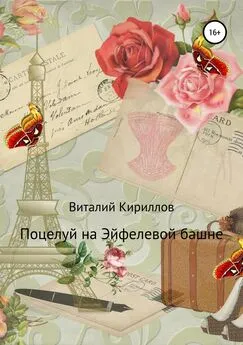Бранислав Ятич - Шаляпин против Эйфелевой башни
- Название:Шаляпин против Эйфелевой башни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентЧетыре Четверти67dd8362-136e-11e6-bded-0cc47a545a1e
- Год:2013
- Город:Минск
- ISBN:978-985-7058-14-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бранислав Ятич - Шаляпин против Эйфелевой башни краткое содержание
Выпуск этой замечательной книги приурочен к 140-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина. Для многих поколений оперных певцов, особенно басов, Шаляпин стал эталоном певческого и актерского мастерства, источником вдохновения и стимулом для исканий на пути к недостижимому идеалу совершенства в оперном искусстве.
Эта книга – попытка осветить творчество Шаляпина с разных сторон: и манеру исполнения, и эстетическую систему, и таинство гениальности. Книга адресована в первую очередь оперным певцам (особенно молодым, только вступающим на оперную сцену), а также дирижерам и оперным режиссерам, художникам театра, концертмейстерам, театральной публике, да и всем образованным людям, заинтересованным в получении новых знаний, освоении новых сторон хорошо, казалось бы, известных аспектов человеческой культуры и духа.
Шаляпин против Эйфелевой башни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Композитор, естественно, не мог не заметить своеобразного прочтения Шаляпиным вокальной партии. И он это принял, и даже, как мы видим, с восхищением. Можно допустить, что изменения, имеющиеся в записи, сделаны Шаляпиным позднее. Но трудно предположить, чтобы композитор этого не знал. Итак, надо прийти к заключению, что данная редакция Шаляпина «авторизована». Она прочно вошла в слуховое сознание не только огромной массы слушателей, но и музыкантов. Доказательством служит включение данной записи в альбом шаляпинских пластинок, выпущенных фирмой «Мелодия» в 1967 году.
А как объяснить появление в 1928 году новой шаляпинской записи каватины?
Повторных записей Шаляпина много. Обычно эти записи появлялись в результате возникновения у певца нового плана интерпретации, нового замысла. Но они никогда не дезавуировали предыдущих. Несмотря на то, что в новой записи Шаляпин во многом повторил изменения, имеющиеся в записи 1923 года, он во многих случаях восстановил авторский текст. Однако данная пластинка в художественном отношении уступает первой (хотя оркестр звучит гораздо ярче и сама запись технически совершеннее). Отрицательно сказывается на форме всей арии заново внесенное Шаляпиным сокращение шестнадцати тактов речитатива (с 10-го по 25-й такт), что разрушает композиционную стройность произведения. Любопытно также, что частичное восстановление авторского текста дало результат, который трудно назвать положительным. Исполнение Шаляпина здесь оказалось скованным, в нем отсутствуют обычные для певца живое чувство, творческий подъем, яркий темперамент. Можно предположить, что попытка артиста вернуть в ряде случаев авторскую редакцию несколько сковала его интерпретацию.
Так или иначе, но рассмотренную нами грамзапись 1923 года каватины Алеко можно в полной мере считать исполнительской редакцией Шаляпина, по-настоящему творчески прочитавшего музыку Рахманинова. Эта редакция представляет большую художественную ценность [216].
К каждому музыкальному произведению Шаляпин подходил исключительно ответственно, стараясь всесторонне изучить его. Он по крупицам собирал необходимые для этого знания и тем самым совершенствовал свое образование и обогащался как личность. Идеи, помогавшие ему создавать художественные образы, он часто находил в других видах искусства, таких как живопись или скульптура. Удивительное исполнение им музыкальных произведений было не просто результатом вдохновения (по словам Чайковского, «вдохновение – это гостья, которая не любит посещать ленивых» ), а следствием упорного труда. Если он на некоторых выступлениях и пел с особенным вдохновением, то это «вдохновение» посещало его в результате длительной и кропотливой работы. В его выступлениях не было ничего случайного или произвольного. Правда, иногда он позволял себе внести что-то новое в свое исполнение на самом концерте или в спектакле без предварительных репетиций. Поэтому его аккомпаниаторам, дирижерам и коллегам, выступавшим вместе с ним, приходилось постоянно сохранять максимальную концентрацию и мгновенно реагировать на эти изменения. Эти импровизации всегда оставались в рамках общего замысла песни или роли, ничем его не нарушая. Импровизация возможна лишь тогда, когда исполнитель в совершенстве владеет музыкальным материалом.
Шаляпин никогда не старался «защитить» художественное произведение от себя и не довольствовался «объективностью» исполнения, а, наоборот, старался внести в него свое субъективное восприятие, добиваясь максимального отражения в нем правды жизни. Степень правдивости исполнения зависит от того, насколько убедительно исполняется музыкальное произведение. Поэтому каждому произведению он подходил со всей полнотой своей артистической личности, со всей силой своего творческого воображения. Оно опиралось на знания, но и на силу творческой интуиции, т. е. на то тонкое чутье художника, которое ведет его в пространствах, находящихся по ту сторону слов и звуков и по ту сторону вещественного мира, соприкасаясь таким образом с метафизическим пространством коллективной психики, вплоть до границ непостижимого.
Проникая таким образом в суть художественного произведения, он пропускал его через через хабитус своей творческой личности . Его гипертрофированное эго , так явно обнаруживавшееся в повседневной жизни, здесь вытеснялось чувством уважения к автору и его произведению, осознанием конкретной художественной задачи и творческого процесса, ведущего к ее осуществлению, процесса, в котором Шаляпин всегда проявлял максимальную артистическую честность. Даже тогда, когда он совершал самый страшный «исполнительский грех» – вносил изменения в авторский текст, – он это делал по чисто эстетическим и драматургическим соображениям, крайне обдуманно, убедительно и уместно. Разумеется, предельно редко встречаются исполнители, имеющие право на «вмешательства» такого рода, дозволенные только поистине гениальным артистам. Quod licet Jovi, non licet bovi [217].
Шаляпин обладал свойством, присущим только самым великим артистам: несмотря на то, что он «представляет собой прежде всего национальную художественную фигуру», его современники отмечали, что он обладал способностью выйти за рамки сугубо национального, перенестись в другое время, в другую эпоху, иную национальную среду, иной социальный слой. Поэтому ему удавалось создать впечатляющие образы не только царей Бориса Годунова и Ивана Грозного, князя Галицкого, кузнеца Еремушки, крестьянина Ивана Сусанина, но и ассирийского полководца Олоферна, испанского священника Дон-Базилио, испанского короля Филиппа II, индийского брахмана Нилаканты или абстрактные образы Демона и Мефистофеля. Способность освободиться от всего личного в сугубо человеческом и шире, в национальном смысле, является той «высшей объективностью», которая позволяла Шаляпину создать с поистине магической убедительностью богатейшую палитру самых различных и разнородных художественных образов; эта высшая объективность и есть не что иное, как художественная правда .
Убедительность исполнений Шаляпина, позволяющая его творческой энергии беспрепятственно распространяться и доходить до зрителей, была результатом превосходного владения им всеми элементами исполнительской техники: дисциплиной ума и тела, вокальной техникой, дикцией. Как говорил Гейне, величайший артист тот, который с наименьшим напряжением (позволим себе уточнить: наименее заметным напряжением) достигает наиболее сильного художественного впечатления. Шаляпин действительно искусно, как настоящий мастер своего дела, «стер пот с лица искусства».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: