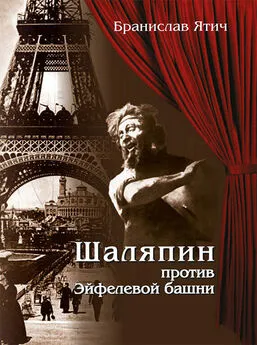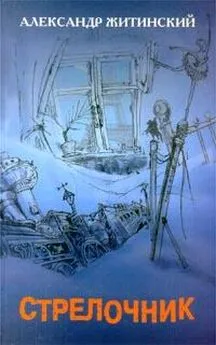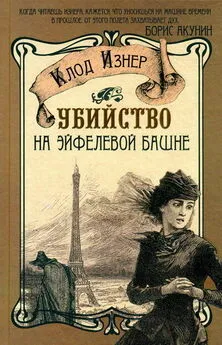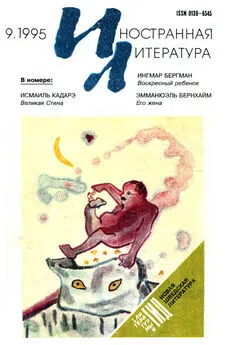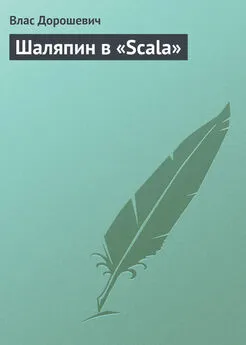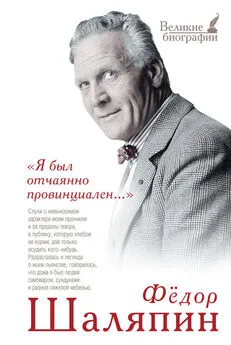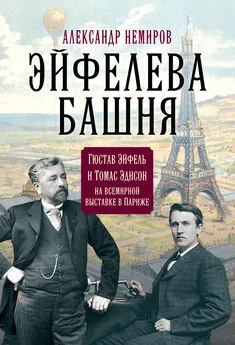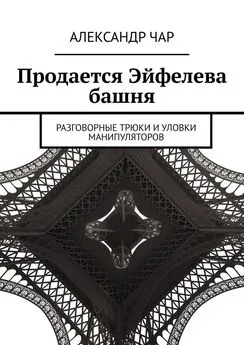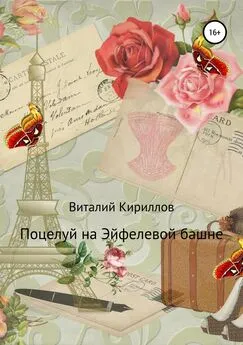Бранислав Ятич - Шаляпин против Эйфелевой башни
- Название:Шаляпин против Эйфелевой башни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентЧетыре Четверти67dd8362-136e-11e6-bded-0cc47a545a1e
- Год:2013
- Город:Минск
- ISBN:978-985-7058-14-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бранислав Ятич - Шаляпин против Эйфелевой башни краткое содержание
Выпуск этой замечательной книги приурочен к 140-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина. Для многих поколений оперных певцов, особенно басов, Шаляпин стал эталоном певческого и актерского мастерства, источником вдохновения и стимулом для исканий на пути к недостижимому идеалу совершенства в оперном искусстве.
Эта книга – попытка осветить творчество Шаляпина с разных сторон: и манеру исполнения, и эстетическую систему, и таинство гениальности. Книга адресована в первую очередь оперным певцам (особенно молодым, только вступающим на оперную сцену), а также дирижерам и оперным режиссерам, художникам театра, концертмейстерам, театральной публике, да и всем образованным людям, заинтересованным в получении новых знаний, освоении новых сторон хорошо, казалось бы, известных аспектов человеческой культуры и духа.
Шаляпин против Эйфелевой башни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что это значит – „идти вперед” в театральном искусстве по принципу „во что бы то ни стало”? Это значит, что авторское слово, что актерская индивидуальность – дело десятое, а вот важно, чтобы декорации были непременно в стиле Пикассо, заметьте, только в стиле : самого Пикассо не дают… Другие говорят: нет, это не то. Декораций вообще не нужно – нужны холсты или сукна. Еще третьи выдумывают, что в театре надо актеру говорить возможно тише – чем тише, тем больше настроения. Их оппоненты, наоборот, требуют от театра громов и молний. А уж самые большие новаторы додумались до того, что публика в театре должна тоже принимать участие в „действе” и вообще изображать собою какого-то „соборного” актера.
Этими замечательными выдумщиками являются преимущественно наши режиссеры – „постановщики” пьес и опер. Подавляющее их большинство не умеет ни играть, ни петь. О музыке они имеют весьма слабое понятие. Но зато они большие мастера выдумывать „новые формы”. Превратить четырехактную классическую комедию в ревю из тридцати восьми картин. Они большие доки по части „раскрытия” намеков автора. <���…> Замечательно, однако, что, уважая авторские намеки, эти новаторы самым бесцеремонным образом обращаются с его текстом и точными его ремарками. <���…> Я не удивлюсь, если завтра поставят Шекспира или Мольера на Эйфелевой башне; потому что постановщику важно не то, что задумал и осуществил в своем произведении автор, а то, что он, „истолкователь тайных мыслей” автора, вокруг этого намудрил» [288].
Обладая необычайной чувствительностью и восприимчивостью, Шаляпин никогда не упускал из поля зрения бурные процессы, происходившие в искусстве начала ХХ века. И сразу отмечал то, что ему в этих новых тенденциях представлялось ложным, что отравляло атмосферу искусства (и сбивало с толку практиков), несмотря на попытки облечь некоторые направления в форму высокопарных эстетических теорий.
Спустя много лет почитаемый и весьма известный в Сербии русский эмигрант, режиссер драматического театра Юрий Ракитин записал в своем дневнике: «Читаю исповедь Айседоры Дункан. Время мое и ее было сумбурное. Много было искренней, пережитой позы, деланного и восторженного увлечения искусством: точно опоили нас всех дурманом такие вот сумбурные типы, как Борис Пронин [289]. Мы сознавали их восторженную пустоту, за которой не было решительно ничего, но вместе с тем мы поддавались этому сумбуру, какому-то „исканию”, экстазу. „Шаманство” – вот слово, лучше его не сыщешь. Я думаю, что оно шло от низов к верхам и кончило оно дворцом и Распутиным. Мерещилось что-то в большом нашем мареве, и вот этот туман перешел с искусства в жизнь, а потом – политику и государство. Желтые движущиеся газы – сладковатые, отдающие эфиром… И Андрей Белый, и Блок, и Брюсов, и Андреев – все были заражены маревом и газом… Да, мы не принимали жизни всерьез. Мы скользили по ней, гоняясь за удовольствиями и удачами. И теперь наказаны жестоко. Мы питались идиотской иронией, это было какое-то стихийное молодечество, какой-то дендизм» [290], – так гласят глубоко личные размышления Юрия Ракитина [291].
Шаляпин не поддался искушениям всевозможных вывертов и противоестественных проявлений нового искусства. Отказываясь от устаревших традиционных образцов и выстраивая широкими мазками свою новаторскую по сути эстетику исполнения в оперном театре, он умел очистить от плевел и уважительно сохранить «плодоносные семена» традиций, «оплодотворяя» их бережно просеянными достижениями искусства своего времени. В этом «скрещивании» он всегда исходил из самого существа оперного искусства, к которому он относился трепетно и в высшей степени ответственно, любовно, внимательно и чистосердечно и как певец, и как режиссер. Его путь вел к глубинам, к тем ценностям, которые живо соотносятся с нашей современностью, в то же время далеко выходя за ее рамки.
Шаляпин очень рано осознал, что оперное искусство по природе своей синтетично. Видимое сближение его элементов, лишенное гармонического взаимопроникновения, делает оперу всего лишь многослойным, но не синтетическим искусством (поэтому Вагнер и называл оперу «монстром»). Шаляпин же стремился именно к высвобождению синтетической природы оперного искусства.
Он осуществлял свои идеи совсем иными средствами, чем Вагнер в Байрейте.
Взгляды Шаляпина в значительной мере совпадали с теоретическими положениями Вагнера. Однако Вагнер пытался представить свои монументальные метафоры на сцене средствами буквалистского натурализма, даже не подозревая о том, в какой конфликт он вступает со стилем собственных опер.
Для Шаляпина в центре синтеза всегда находился певец. Он должен быть способен выразить средствами своего тела все идеи спектакля.
Для того, чтобы это осуществить, певец должен произвести действенный анализ роли и донести до зрителей результаты своего анализа. Шаляпин предлагает ему необходимый метод и исполнительскую технику.
При выполнении этой задачи певец непосредственно опирается на всю авторскую команду (дирижер, режиссер, сценограф, художник по костюмам). Концепция должна быть согласована, в первую очередь, между дирижером и режиссером, ибо концепция есть амальгама двух основных элементов оперного искусства – слова и музыки, в которых встречаются поэт и музыкант. Поэтому-то Шаляпину-режиссеру и необходим дирижер-партнер, который не будет бороться за перевес музыкального начала над драматическим, но будет полностью осознавать необходимость творческого сотрудничества с режиссером, со сценографом, с певцом и, возможно, с хореографом. При этой ситуации не возникнут часто встречающиеся парадоксы оперного театра, когда превалирует один из элементов и тем самым нарушается синтетичесий характер оперной формы.
Синтез слова и музыки Шаляпин видел в том, что драма, как цель выражения, осуществляет себя через музыку, как средство выражения, – это положение отстаивал еще Вагнер, но целые поколения исполнителей и режиссеров остались к нему глухи [292].
К этому тяготеет режиссерский метод Шаляпина.
Это значит, что через каждого исполнителя, через пение и игру в органическом единстве, через которое выражается особое душевное состояние человека (характерное для оперы) с его внешними проявлениями непрерывно разыгрывается и символическая драма (конкретность, идея, анализ и/или абстракция, выраженные словами, оплодотворенные эмоциональностью и аллегорической ассоциативностью музыки, претворяются в материю высшей одухотворенности). Итак, по Шаляпину, синтез слова и музыки достигает полноты, когда он осуществлен и в материальном плане:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: