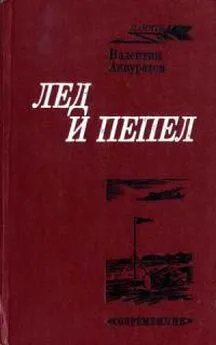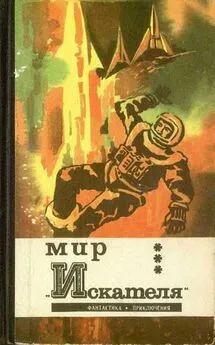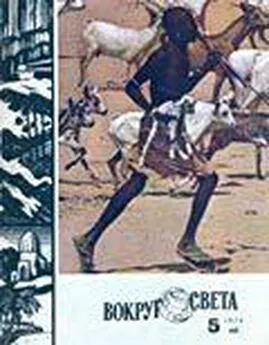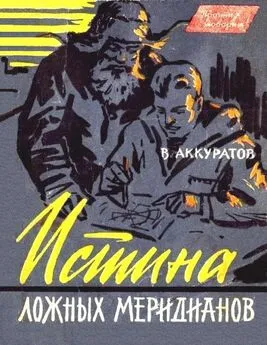Валентин Аккуратов - Лед и пепел
- Название:Лед и пепел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Аккуратов - Лед и пепел краткое содержание
Имя Валентина Ивановича Аккуратова — заслуженного штурмана СССР, главного штурмана Полярной авиации — хорошо известно в нашей стране. Он автор научных и художественно-документальных книг об Арктике: «История ложных меридианов», «Покоренная Арктика», «Право на риск». Интерес читателей к его книгам не случаен — автор был одним из тех, кто обживал первые арктические станции, совершал перелеты к Северному полюсу, открывал «полюс недоступности» — самый удаленный от суши район Северного Ледовитого океана. В своих воспоминаниях В. И. Аккуратов рассказывает о последнем предвоенном рекорде наших полярных асов — открытии «полюса недоступности» экипажем СССР — Н-169 под командованием И. И. Черевичного, о первом коммерческом полете экипажа через Арктику в США, об участии в боевых операциях летчиков Полярной авиации в годы Великой Отечественной войны.
Лед и пепел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ночью меня разбудил Водопьянов. Я понимал, что до старта еще далеко. Мы молча оделись и, захватив карабин на случай встречи с медведями, которые любили нас навещать, вышли еще раз посмотреть взлетную полоску. Стояла чуткая тишина. Только резкий скрип снега под ногами нарушал этот белый сон. Далеко на горизонте, где синь бухты сливалась с такой же синью неба, величественно выстроился караван белых айсбергов, застывших на месте, словно на остановившемся кинокадре. Изредка порывы ветра доносили до нашего слуха весенний стон птичьего базара. Огромное, золотисто–розовое солнце низко висело над зелено–голубым потоком застывшего ледника. У последнего, выставленного вчера, ограничительного флажка мы остановились. Я ждал, что скажет Михаил Васильевич. Он долго молчал и вдруг проговорил: «Красотища–то какая, а! Расскажи — не поверят, нарисуй — красок на палитре не хватит! Ну и талантище у матушки-Арктики!» Что я мог ему ответить? Какую–нибудь банальность? Я боялся разрушить, опошлить впечатление, а слов, даже чуть–чуть приближавшихся к этой сказочной красоте, не находил. «Все' — с неожиданной резкостью, словно прощаясь, проговорил Михаил Васильевич. — Улетать надо! Пошли будить экипаж!»
На зимовке уже никто не спал. Все собрались в кают–компании, одновременно служившей и столовой небольшого, но дружного коллектива гидрометеорологической обсерватории бухты Тихой. Тогда, в 1936 году, это был единственный населенный пункт обширного архипелага Земли Франца — Иосифа, состоящий из двух жилых одноэтажных деревянных домов и нескольких служебных построек, включая радиостанцию, ветровую электростанцию и ангар. Раз в году, а иногда — два, в зависимости от состояния ледовой обстановки, в Тихую пробивался ледокол, доставляя все необходимое: продукты питания, топливо, научное оборудование. Двенадцать месяцев льда, пурги и стужи. Из них — четыре месяца черной непроницаемой тьмы полярной ночи, с неистовыми штормовыми ветрами, с острой неистребимой тоской по далекой Большой земле, такой теплой и зеленой. Уход солнца провожали с болью, встречали — буйной радостью.
Тяжел и опасен труд зимовщиков. Несколько раз в сутки, в строго определенные часы, будь то ураганный ветер или свирепый мороз, надо идти на удаленные метеорологические площадки, на берег моря к футштоку гидрологической станции, скрюченными от обжигающей стужи пальцами записать показания приборов, оглядываясь, как бы не выскочил голодный медведь… И так через каждые четыре — шесть часов, изо дня в день, в течение года или двух лет!
Нелегок и быт зимовок: выпилить спрессованный, как камень, снег и натаскать для таяния пресной воды, откопать смерзшийся уголь для отопления, прорыть проходы в жилые и служебные помещения, восстановить порванные ураганными ветрами антенны, электропроводку… На столе — пусть самые разнообразные, но осточертевшие консервы, редко — свежее медвежье мясо. Медведей щадили, били только при попытках нападения. Хотя и не было еще Красной книги, но островитяне уже оберегали этого зверя, ценя его красоту и уникальность. Да, это был настоящий героизм. Мы, летчики, понимали и ценили их труд. Ведь одно дело совершить героический поступок, так сказать, разовый — пусть это будет сверхтрудный перелет, полный риска, но совсем другое — рисковать ежедневно и ежечасно.
За двадцать дней нашего пребывания тогда в Тихой мы сдружились с зимовщиками, как бы влились в их крепкую семью. Несмотря на свою занятость, они помогали нам откапывали из–под трехметровых снежных сугробов бочки с бензином, чистили взлетную полосу, качали в баки горючее. Грустно было расставаться, да и «цирковой» взлет заставлял многих задуматься.
И все–таки мы взлетели, хотя взлетали по–страшному. О таких взлетах летный состав говорит: «Седины прибавляют, а жизнь укорачивают». Машина на лыжах, без тормозов, площадка — как лезвие ножа, а впереди высокий ледяной барьер ледника. После отрыва самолет сейчас же нужно было развернуть вправо, чтобы не врезаться в ледяную стену… «Риск?» — спрашивал я мысленно Водопьянова. «Необходимость!» — отвечал себе сам, ибо другого выхода не было, а точнее — риск и необходимость вместе с трезвой оценкой своего летного мастерства. И Водопьянов свое мастерство доказал.
От воспоминаний меня отвлекает голос Черевичного:
— Штурман, приготовиться к сбрасыванию!
— Все готово! Груз у люков! — Я слежу через оптический прицел за быстро набегающей на перекрестье зимовкой. Включаю сигнал сброса. Груз летит вниз и падает рядом с радиостанцией.
— Груз сброшен! Закрыть люки! Курс истинный пятнадцать градусов с набором! — передаю команду через микрофон внутренней связи и делаю отметки в бортжурнале.
Самолет набирает безопасную высоту, хотя видимость и погода отличные. Но над горами Земли Франца — Иосифа часто бывают сбросовые потоки ветра. Самолет неожиданно может подхватить и бросить вниз, разбить о ледяной купол того или иного острова. Это действие так называемых катабатических ветров. От такого сброса в хорошую ясную погоду в районе Маточкина Шара на Новой Земле погиб летчик Лев Порцель на гидросамолете СССР-Н-3. Мы знали это коварное явление, присущее островам Новой Земли, Земли Франца — Иосифа и Северной Земли, а потому всегда почтительно обходили их сменой курса или набором высоты.
Спустя пять минут после ухода от бухты Тихой Саша Макаров по радио получил подтверждение о получении груза и горячую благодарность зимовщиков за неожиданную радость. Вскоре мы подошли к острову Рудольфа. Саша связал нас радиотелефоном с островом, и мы задушевно поговорили с нашими друзьями. Ведь только три месяца назад мы были у них на Н-169, когда летели на штурм «полюса недоступности». На этот раз сесть у них мы не могли, ибо все побережье острова было забито льдами. На наш вопрос, были ли у них какие–либо самолеты, начальник станции Сергей Воинов ответил, что нет, но радисты передавали ему: часто слышат работу какой–то незнакомой радиостанции и, судя по шумам и потрескиванию, где–то близко расположенную.
— Вы, наверное, слышите работу моторов иностранных самолетов, которых мы дважды встречали в юго–восточном районе архипелага? — сказал Черевичньга.
— Возможно, Иван Иванович. Мы пытались запеленговать, но они работают на средних волнах, а пеленгатор наш коротковолновый, остался еще после экспедиции на полюс тридцать седьмого года, — ответил Воинов.
— Все ясно. А особых указаний за последние часы из центра вы не получали?
— Нет, никаких! Что–нибудь случилось? — насторожился Сергей Воинов.
— Да нет, все в порядке, — успокоил его Черевичный. — Мы идем на север. Следите за нами. Посадка по погоде в Нарьян — Маре или Архангельске.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: