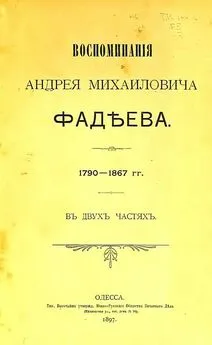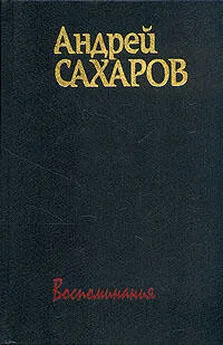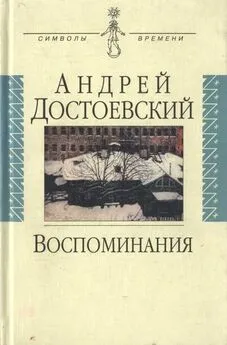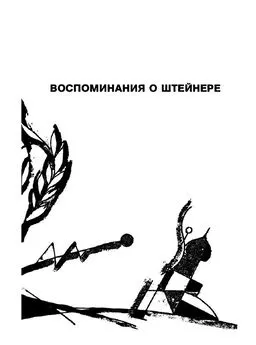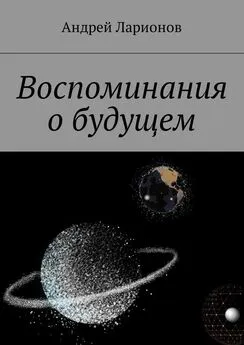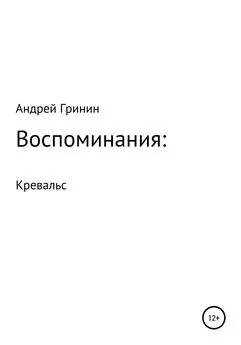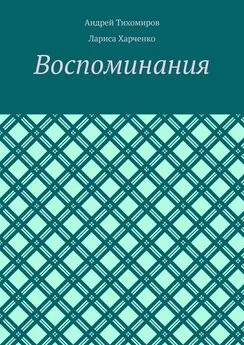Андрей Фадеев - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография Акционерного Южно-Русского Общества Печатного Дела
- Год:1897
- Город:Одесса
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Фадеев - Воспоминания краткое содержание
Андрей Михайлович Фадеев — российский государственный деятель, Саратовский губернатор, позднее — высокопоставленный чиновник в Закавказском крае, тайный советник. С 1817 по 1834 год он служил управляющим конторой иностранных поселенцев в Екатеринославле. Затем был переведён в Одессу — членом комитета иностранных поселенцев южного края России. В 1837 году, после Одессы, А. М. Фадеев был назначен на службу в Астрахань, где два года занимал пост главного попечителя кочующих народов. В 1839 году Андрей Михайлович переводится в Саратов на должность управляющего палатой государственных имуществ. 1846 года Фадеев получил приглашение князя М. С. Воронцова занять должность члена совета главного управления Закавказского края и, вместе с тем, управляющего местными государственными имуществами. Оставаясь на службе в Закавказском крае до конца своих дней, в 1858 году был произведен в тайные советники, а за особые заслуги при проведении в Тифлисской губернии крестьянской реформы — награжден орденом Белого Орла (1864) и золотой, бриллиантами украшенной, табакеркой (1866).
«Воспоминания» А. М. Фадеева содержат подробную автобиографию, в которой также заключается много метких характеристик государственных деятелей прошлого, с которыми Фадееву приходилось служить и сталкиваться. Не менее интересны воспоминания автора и об Одессе начала XIX века.
Приведено к современной орфографии.
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вскоре Корсак отправился в свое имение Полынковичи, недалеко от Могилева, где зажил сообразно своим вкусам: завел охоту, развел огромную стаю собак, наполнявших его обширный дом, так как он держал их не на псарне, а при себе, в доме; они бегали свободно по всем комнатам, а во время обеда вертелись вокруг стола и хватали куски с тарелок, что очень забавляло хозяина. В то же время по соседству с ним, обитали в Белоруссии два другие известные и свое время при дворе, опальные Зорич и Ермолов. Все трое вели знакомство между собою, и по образцу их жизни, о них составилось такое суждение: Корсак живет для собак, Ермолов для свиней, а Зорич для людей. С первым и последним Елена Ивановна де-Бандре была дружески знакома и, живя уже вдовой в своем Могилевском имении Низках, неподалеку от них, часто виделась с ними; они посещали ее, она ездила к ним в гости с своей маленькой шестилетней внучкой княжной Еленой Павловной Долгорукой, которую они очень любили и баловали, а Корсак называл своей маленькой невестой. Тогда генерал-адъютанты носили только один эполет, а у Корсака эполет состоял весь из крупных бриллиантов величиной каждый с лесной орех. Шутя с маленькой княжной он всегда говорил ей, что когда женится на ней, то подарит ей этот эполет.
В тридцати верстах от Могилева в местечке Шклове, среди шестнадцати тысяч душ, ему принадлежавших, широко проживал большим барином Зорич. Он был серб. К нему наехали на житье множество родных, в том числе сестра его Кислякова и родственник граф Цукато. Жил Зорич очень открыто, гостеприимно, завел театр, устроила, на свои счет кадетский корпус. На его именины 3-го февраля в день Св. Симеона к нему съезжалась вся Белоруссия и многие из России. Кроме того, он радушно приютил у себя в доме изрядное количество всяких чужестранцев и эмигрантов, живших у него в полном довольстве. Между последними заметно выдавался один французский граф, пользовавшийся общими симпатиями. Это был высокий, худой человек, средних лет, хорошо образованный, даже ученый, очень добрый, с утонченно вежливым обращением, светский и любезный. Он особенно любил и ласкал маленькую княжну Долгорукую, садил ее к себе на колена носил, на руках, забавлял, рассказывал сказки, пел песенки, играл с нею и иначе не называл как «ma jolie petite princesse». Такое доброе внимание к ребенку, конечно, расположило к графу и девочку и ее бабушку, считавшими его прекрасным человеком, что также было общим мнением. Но однажды распространились слухи, что в Шклове стали проявляться фальшивые ассигнации, привезенные из-за границы. Вскоре слухи подтвердились, началось формальное следствие, и открылось, что незадолго перед тем граф получил по почте из-за границы ящик с картами, — а под картами оказались искусно скрытыми и уложенными в карточные обертки фальшивые ассигнации. Далее разъяснилось, что это случилось не в первый раз, и что графу и прежде доставлялись по временам подобные посылки. Его предали суду и осудили к ссылке в Сибирь. Граф был страшно поражен и неизвестно, от ужаса ли при открытии преступления, или притворно, только с первых же дней по обнаружении этой проделки, он совершенно онемел, и в продолжении десяти лет, до самой смерти своей, уже не произносил ни одного слова. Вероятно, по просьбе Зорича, или чьей либо другой протекции, губернатор той местности Сибири, куда сослали графа, взял его к себе в дом, где он и проживал остальное время своей жизни.
По смерти Зорича осталось больше долгов нежели наследства, долженствовавшего остаться брату его от другого отца, Неранчицу. Жена же этого Неранчица была та самая злополучная дама, которой привелось совершенно невольно, позабавить московскую публику во время коронации Императора Павла Петровича. Тогда вышло предписание, чтобы все дамы проезжающие в экипажах, при встрече с Государем останавливались, выходили из дверец, и становясь на первой ступеньке кланялись Его Величеству. Г-жа Неранчиц ехала в карете и, встретив Императора, хотела исполнить церемониал предписанного официального поклона. В поспешности она не заметила, что с другой стороны кареты, платье ее было примкнуто дверцей, и когда стала на ступеньку, платье натянулось, поддернулось и так поднялось, что обнаружились голые колена. Государь засмеялся и махнул рукой, чтобы она вошла в карету; но так как по указанию церемониала нельзя было обернуться к Государю спиной, то при затруднениях своего неловкого положения, пятясь назад в карету, г-жа Наранчиц еще больше запуталась в своем платье, оступилась, упала в карету, ноги подбросились к верху, — и попытка Официального поклона неожиданно ознаменовалась вариациею, совершенно выходившей из границ церемониального этикета. В Москве много смеялись по поводу этого приключения. Не смеялась только бедная г-жа Неранчиц.
Вскоре затем, уже в Петербурге, был другой случай, по той же причине. Император Павел Петрович, прогуливаясь по обыкновению перед обедом, заметил быстро проехавшую мимо карету с сидящей в ней дамой, не остановившейся для исполнения предписания. Государь приказал догнать карету остановить, и узнать фамилию и адрес дамы. Она сказала. Возвратясь в дворец, Государь сейчас послал за нею, с повелением немедленно привезти ее к нему. Посланные, приехав по адресу к означенной даме, нашли что она больна при смерти и что ее соборуют маслом. Когда об этом доложили Императору, он сказал, что все это выдумки, комедия, и приказал непременно ее представить к себе, не смотря ни на что. Когда явились опять к ней в дом, то застали, что она уже лежит мертвая на столе. В то время все говорили, что дама, ехавшая в карете, вероятно, была с визитом у своей умиравшей знакомой, и когда ее остановили по приказанию Государя, она, побоявшись назвать настоящее свое имя, назвалась именем больной. Это было самое правдоподобное объяснение этой странной истории.
Елена Ивановна де-Бандре сообщала также интересное сведение о графине Апраксиной, рожденной графине; Ягужинской, бывшей и то время в Киеве игуменьей Флоровского монастыря. О ней писала в наших исторических журналах, между прочим в «Русской Старине», — но писали крайне неверно и ошибочно. Графиня Апраксина была в близком родстве с князем Павлом Васильевичем Долгоруким, зятем Б.И. де-Бандре, который, приезжая в Киев, ежедневно бывал у нее в Флоровском монастыре, с своей маленькой тогда дочерью княжной Еленой Павловной. История ее довольно замечательна. Графиня в ранней молодости вышла замуж за графа Апраксина по любви, очень любила его, и имела от него двух, сыновей. Он же, влюбился в фрейлину графиню Разумовскую, умел понравиться ей и увез ее. Старик отец ее, граф Разумовский, бросился за ними в погоню, догнал их, сорвал с нее фрейлинский шифр, привез его во дворец к Императрице Екатерине и сказал вручая ей: «Государыня, дочь моя недостойна носить шифр с Вашим именем!» Императрица, желая уладить это дело, призвала к себе графа Апраксина, который ей объявил, что он уговорит жену свою пойти в монастырь, чтобы дать ему свободу. И действительно так и сделал: поехал к ней и упросил принести для него эту жертву. Она постриглась в монахини, а он женился на графине Разумовской, положение которой уже требовало торопиться браком. Старший сын первой графини Апраксиной часто навещал свою мать, когда она была игуменьей Фроловского монастыря, гостил у нее подолгу и умер на ее руках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: