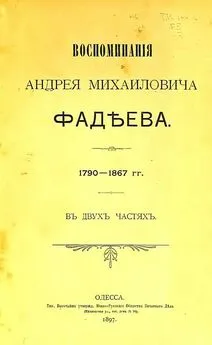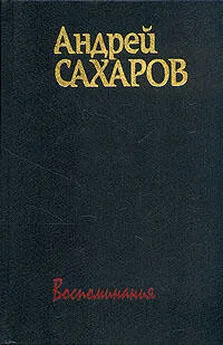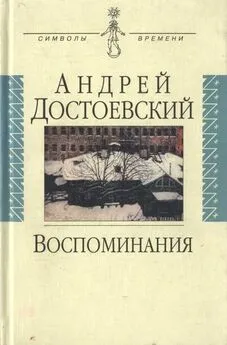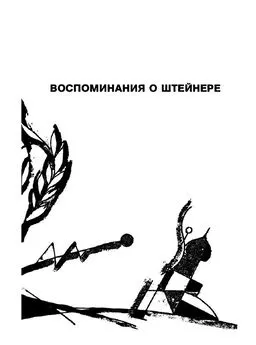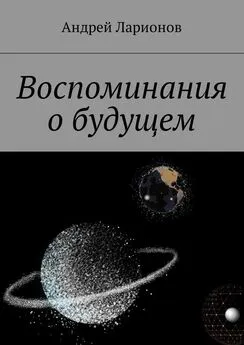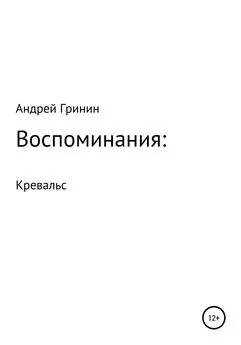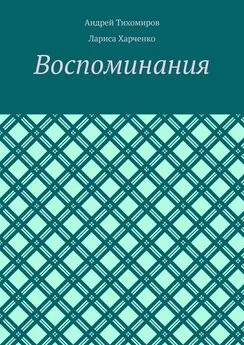Андрей Фадеев - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография Акционерного Южно-Русского Общества Печатного Дела
- Год:1897
- Город:Одесса
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Фадеев - Воспоминания краткое содержание
Андрей Михайлович Фадеев — российский государственный деятель, Саратовский губернатор, позднее — высокопоставленный чиновник в Закавказском крае, тайный советник. С 1817 по 1834 год он служил управляющим конторой иностранных поселенцев в Екатеринославле. Затем был переведён в Одессу — членом комитета иностранных поселенцев южного края России. В 1837 году, после Одессы, А. М. Фадеев был назначен на службу в Астрахань, где два года занимал пост главного попечителя кочующих народов. В 1839 году Андрей Михайлович переводится в Саратов на должность управляющего палатой государственных имуществ. 1846 года Фадеев получил приглашение князя М. С. Воронцова занять должность члена совета главного управления Закавказского края и, вместе с тем, управляющего местными государственными имуществами. Оставаясь на службе в Закавказском крае до конца своих дней, в 1858 году был произведен в тайные советники, а за особые заслуги при проведении в Тифлисской губернии крестьянской реформы — награжден орденом Белого Орла (1864) и золотой, бриллиантами украшенной, табакеркой (1866).
«Воспоминания» А. М. Фадеева содержат подробную автобиографию, в которой также заключается много метких характеристик государственных деятелей прошлого, с которыми Фадееву приходилось служить и сталкиваться. Не менее интересны воспоминания автора и об Одессе начала XIX века.
Приведено к современной орфографии.
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Любопытен еще рассказец, очень оригинально изображающий одну из интимных сторон характера известной графини Александры Васильевны Браницкой, рожденной Энгельгардт, любимой племянницы блистательного князя Тавриды Потемкина (Мать княгини Е. К. Воронцовой, супруги фельдмаршала.). Елена Ивановна де-Бандре была хорошо знакома с графиней, и под старость обе вдовы жили в своих имениях Киевской губернии, — первая очень скромно в маленькой деревеньке при поместье Ржищево, вторая, — в своем знаменитом местечке (теперь городе), Белой Церкви, с состоянием в несколько десятков миллионов руб., о которых она не любила разговаривать. В одно утро, приехал к Ел. Ив. де-Бандре знакомый исправник Тарасевич и привез ей поклон от графини Браницкой, к которой он заезжал по делу. В дальнейшем разговоре о здоровье графини, ее житье-бытье, ее известной склонности к соблюдению экономии, исправник рассказал подробности своего визита. Ему надобно было переговорить с графиней о ее же деле. Отправляясь к ней верст за тридцать, на своих лошадях, в бричке, с намерением, тотчас по кратком разговоре с графиней, немедленно выехать, куда то далеко для производства неотложного следствия, и зная, что его лошадей на графском дворе кормить не станут, — он велел привязать сзади брички, на запятках, хорошую связку сена, дабы в дороге покормить своих усталых, голодных коней. Графиня приняла его довольно милостиво и вежливо, но с сохранением важного достоинства и величия своих важных титулов: статс-дама высочайшего двора, кавалерственная дама ордена Екатерины 1-й степени, племянница князя Потемкина, ясновельможная коронная гетманша, многомиллионная графиня Браницкая, благосклонно снисходила вести разговор о своем дельце, с маленьким, темным уездным чиновником. Она сидела в покойном кресле перед письменным столом, возле большого окна, выходившего во двор. Объяснившись по делу, исправник начал раскланиваться, графиня кивнула головой и повернулась к окну, — но в ту же минуту обратилась к исправнику с новым вопросом о деле, попросила посидеть, разъяснить то и другое; стала с участием расспрашивать о его службе, его семействе, ею частной жизни, рассказывать о посторонних вещах, просила не торопиться, отдохнуть, и все это так просто, приветливо, ласково, что г-н Тарасевич крайне изумился. Куда девалась величавая, внушительная важность, куда девался горделивый гетманский гонор! Знатная персона высокого тона мгновенно, как бы по мановению волшебной палочки, превратилась в добродушную, болтливую старушку без всякой церемонности, без малейших претензий и поползновений на давление своим безмерным превосходством и милостивым снисхождением, ничтожного человека, неловко сидевшего против нее на кончике стула. Словом, ни тени только-что бывшей пред тем вельможной, сановитой старой графини Браницкой, к которой почтенные дамы высшего тогдашнего Киевского общества, генеральши, считали за честь подходить к целованию ручки, — о чем свидетельствует Филипп Филиппович Вигель в первом томе своих воспоминаний. Несколько раз исправник Тарасевич подымался со стула и принимался за отвешивание нижайших прощальных поклонов, но графиня снова настойчиво усаживала его и продолжала оживленно беседовать с ним. Исправник понял, что она умышленно его заговаривает и удерживает, но никак не мог постигнуть, для чего. Он заметил что графиня, разговаривая с ним, частенько, как бы мимоходом и невзначай, поглядывает в окно, — и из любопытства, что она туда смотрит, что там такое — сам заглянул в окно. Он увидел весьма прискорбную для себя картину: посреди обширного двора, неподалеку от крыльца, стояла его бричка: усталая тройка на солнечной жаре грустно понурила головы, кучер дремал на козлах; а сзади, у запяток, подобралась графская корова и беспощадно пожирала припасенное, увязанное на запятках сено. Исправник Тарасевич разом постиг все. Он уже не пытался раскланиваться и покорно ожидал скорого окончания своего визита, соразмеряя его с хищническим аппетитом коровы. Графиня продолжала поглядывать в окно и, по мере уменьшения сена, начинала понемножку охладевать в заботливом участии к судьбе исправника, и возвращаться в первобытную норму знатной персоны. С последним клочком сена, вытащенным коровой, — исправник Тарасевич почтительно встал, а графиня Браницкая, уже с полным аттитюдом высокопоставленной особы, глубоко сознающей свои властные, полновесные атрибуты, — легким наклонением головы, как бы с заоблачной высоты, снисходительно отпустила его в дальнейший путь на голодных лошадях.
27
Андрей Михайлович и Елена Павловна Фадеевы дали своему сыну имя « Ростислав» вследствие особенной причины, которая заслуживает быть переданной здесь.
Задолго до этого, когда Елена Павловна была еще молоденькой девочкой, почти ребенком, был у нее двоюродный дядя, князь Григорий Алексеевич Долгорукий, старый моряк, долго и много плававший по морям. Он командовал кораблем и с ним участвовал в эскадре графа Орлова Чесменского, когда тот совершал экспедицию в Неаполь для похищения княжны Таракановой. По совершении похищения, Тараканову посадили на этот же самый корабль под командой Долгорукого, который и доставил ее в Кронштадт. Кн. Долгорукий любил рассказывать своей маленькой племяннице, как он совершал это путешествие с принцессой Таракановой, какая она была очаровательная женщина, любезная, красивая, отличная музыкантша, как прекрасно пела. Бывало, в тихую, лунную ночь, выйдет на палубу и начнет петь, и долго, долго поет, и такой у вея голос, что проникает в самую глубь души. И под это пение, у князя Долгорукого начинала бродить странные мысли, в роде того: «а что если бы с нею куда нибудь бежать! Что-ж, матросы меня любят, они меня послушают; взять-бы, повернуть корабль, да вместо Кронштадта махнуть в Америку!.. А там что Бог даст». Такие мысли продолжалось конечно, только пока Тараканова пела, и умолкали вместе с ее голосом. Так он ее и довез до Кронштадта. Тут за нею приехали на корабль, взяли, увезли, и с тех пор кн. Долгорукий ее не видел, нигде ее не мог открыть и ничего не мог узнать. Говорили, что ее засадили в Петропавловскую крепость, и что она там при наводнении утонула. Князь Долгорукий был старый, бессемейный холостяк, большую часть жизни проводил в море на своем корабле и любил его со страстью, как свое родное детище, Корабль назывался «Ростислав». Кн. Долгорукий говорил о нем с отеческою нежностью, иногда со слезами умиления, и постоянно твердил своей племяннице: «смотри, Еленушка, когда ты будешь большая, и выйдешь замуж, и будет у тебя сын, ты ею назови Ростиславом, в честь и память моего корабля. Он должен быть Ростислав, непременно Ростислав. Смотри же, помни, не забудь». И взял с нее слово, и при каждом свидании напоминал об этом. Прошло много лет, маленькая девочка сделалась взрослой девушкой, вышла замуж, была уже матерью двух дочерей. Князь Григорий Алексеевич давно уже расстался с своим Ростиславом и с пучин морских сошел в недра земные: но Еленушка не забыла своего обещания. И вот, в 1824-м году 28-го марта. Бог ей даровал сына, здорового, большого мальчика, которому по виду можно было дать два-три месяца. Радостно встретили родители своего первого и единственного сына и при его крещении исполнили заветное желание старого командира корабля «Ростислава»: и в честь и память их обоих, назвали своего сына Ростиславом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: