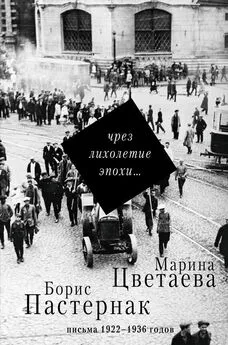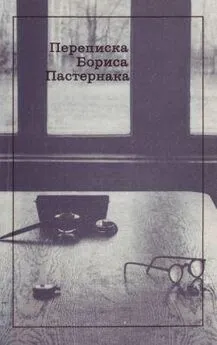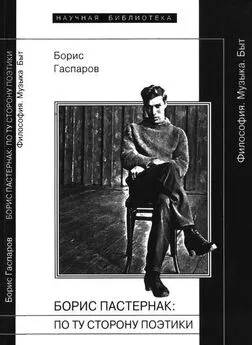Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
- Название:Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-097267-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов краткое содержание
Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи».
Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей. Это песня на два голоса. Услышав ее однажды, уже невозможно забыть, как невозможно вновь и вновь не возвращаться к ней, в мир ее мыслей, эмоций и свидетельств о своем времени.
Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Может быть, это затянулось по моей вине. Больше еще чем участие врачей, требовалось участие времени. Я ему вредил своим нетерпеньем. Часть моих страхов и наблюдений оказывалась вдруг химерами. Но возникали новые. Это было похоже на узел с вещами, разваливающимися в спешке: подбираешь одно, ползет другое.
Это прекратилось лишь недавно, с переездом всех в город и моим возвращеньем к привычной обстановке. Я стал спать и занялся приведеньем здоровья в порядок. При одном из анализов выяснилась одна серьезная нескладица с желудком. У меня есть опасенье, – я не хочу его называть, послезавтра пойду на просвечиванье.
Теперь я прочел твою прозу. Вся очень твоя, везде смотришь в корень и даешь полные, запоминающиеся определенья, все безошибочно, но всего замечательнее «Искусство при свете совести» и «У Старого Пимена», отчасти и о Волошине. В этих, особенно названных двух, анализ, ненасытимость анализа, так сказать, вызваны природою предмета и жар и энергия, которые ты им посвящаешь, естественны и легко разделимы. В «Матери и музыке» такой надобности на первый взгляд меньше, или же разбор, как ты и сама в одном месте замечаешь (диэзы и бемоли), идет не по существу. Но живых образов и черточек и тут целая пропасть. Я все это исчертил отметками. Теперь оттиски у Аси.
Летом мне переслали твое письмо с той виллы (урожденной Елпатьевской). Я не мог тебе ответить вовремя, п.ч. был болен. Помнишь ли ты свою фразу про абсолюты? В ней все преувеличено. А состоянье мое, которому ты была свидетельницей, преуменьшено. Но такое непониманье (оно естественно) я встретил и со стороны родителей: они моим неприездом потрясены и перестали писать мне.
Я хочу жить и боюсь что-нибудь накаркать. Давай думать, что это только перерыв в моей жизни, а не – как ни смешно это выраженье – начало конца. Собственно, у меня ряд аномалий прошел, какие летом, какие позднее, к осени. Нервность, неврозы – все это одни разговоры. Я мог и должен был бы уже и сейчас поправляться, а между тем мне страшно подходить к зеркалу.
Но, допусти, – а вдруг я оправлюсь, и все вернется. И мне опять захочется глядеть вперед, и кого же я там, по силе и подлинности того, например, что было в Рильке, вместо тебя увижу? Причем тут твои абсолюты? Позволительная ли это романтика? —
Я не только подружился с Сережей, я, так сказать, приехал сюда и с Алей твоей на устах. Нет, серьезно, не они б, я просто бы в Париже рехнулся . Мне надо быть совершенно здоровым и радостным, чтобы написать этим замечательным людям. Ты их крепко поцелуй от меня.
Но когда же вы приедете? Или опять мы увидимся в Париже? Потому что я серьезно теперь об этом мечтаю, если только судьба мне выздороветь.
Скажи, а не навязываюсь ли я тебе, – после твоего летнего письма?
Твой Б.Письмо 199
<���октябрь 1935 г.>
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Борис. Отвечаю сразу, – бросив всё (в то полувслух, как когда читаешь письмо). Иначе начну думать, а это заводит далёко.
О тебе. Тебя нельзя судить как человека, ибо тогда ты – преступник <���вариант: чудовище>. Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери, на поезде – мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет – не жди. Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, обратное тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться (хотя м.б. так же этого боюсь и так же мало радуюсь). Не проси понимания от обратного (обратнее нет. Моя мнимая резкость). И здесь уместно будет одно мое наблюдение: все близкие мне – их было мало – оказывались бесконечно мягче меня, даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist hart [174]– и это меня огорчало, п.ч. иной я быть не могла. Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только – форма, контур сути, необходимая граница самозащиты – от вашей мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Б.Пастернак. Ибо вы в последнюю минуту – отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек. Я знаю, что ваш род – выше, и мо́й черед, Борис, руку на сердце, сказать: О, не вы! Это я – пролетарий. Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А все – любили. Это было печение о своей душе. Я, когда буду умирать, о ней (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и м.б. в лучшем , эгоистическом случае: не растащили ли мои черновики. М.б. от того, что буря (как женщина) любит домоводство.
Собой (ду-шой) я была только в своих тетрадях и на одиноких дорогах – редких, ибо я всю жизнь – водила ребенка за руку. Но именно п.ч. всю жизнь – заботилась, всю жизнь и огрызалась – отгрызалась. На «мягкость» в общении меня уже не хватало, только на общение: (служение, бесполезное ) жертвоприношение. Мать-пеликан , в силу создавшейся системы питания – зла . – Ну́, вот. —
О вашей мягкости. Вы – ею – откупаетесь, затыкаете этой ватой <���над строкой: гигроскопической> дыры <���варианты: зевы, глотки> ран, вами наносимых, вопиющую глотку – ранам. О, вы добры, вы при встрече не можете первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы – чтобы не обидеть <���над строкой: человек не подумал, что…>. Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда. И оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше. Роберт Шуман забыл , что у него были дети, число забыл, имена забыл, факт забыл, только помнил <���вариант: спросил> о старшей девочке: – Всё ли у нее такой чудесный голос?
Но – теперь ваше оправдание – только такие создают такое . Ваш был и Гёте, не пошедший проститься с Шиллером и X лет не проехавший во Франкфурт повидаться с матерью – бережась для Второго Фауста (или еще чего). Но – скобка – в 74 года осмелившийся влюбиться и решившийся жениться – здесь уже – сердца (физического!) не бережа. Ибо в этом вы – растратчики, ты – как «все». И будь я – не я, Рильке ко мне бы со смертного одра приехал – последний раз любить! Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловека в себе: божества в себе), как собаки <���над строкой: собственным простым языком от ран> лечитесь – любовью, самым простым. И когда Ломоносова мне с огорчением писала о твоей «невоздержанности», по наивной доброкачественности путая тебя с Пушкиным и простой мужской страстностью истолковывая твой новый брак, – да, милая, – слава Богу! ибо это его – последний прицеп.
Только пол делает вас человеком, даже не отцовство.
Поэтому, Борис, держись своей красавицы.
«Абсолюты»… Слова не помню (да и не личное ) – очевидно: «рассчитывала на тебя, как на каменную гору, а гора оказалась горбом анаконды (помнишь, путешественники развели костер на острове, а остров, разогретый <���вариант: раздраженный огнем>, перевернулся – и все потонули <���вариант: пошли ко дну>…» Такое?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: