Лев Славин - Ударивший в колокол
- Название:Ударивший в колокол
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Славин - Ударивший в колокол краткое содержание
Творчество Льва Славина широко известно советскому и зарубежному читателю. Более чем за полувековую литературную деятельность им написано несколько романов, повестей, киносценариев, пьес, много рассказов и очерков. В разное время Л. Славиным опубликованы воспоминания, посвященные И. Бабелю, А. Платонову, Э. Багрицкому, Ю. Олеше, Вс. Иванову, М. Светлову. В серии «Пламенные революционеры» изданы повести Л. Славина «За нашу и вашу свободу» (1968 г.) — о Ярославе Домбровском и «Неистовый» (1973 г.) — о Виссарионе Белинском. Его новая книга посвящена великому русскому мыслителю, писателю и революционеру Александру Герцену. Автор показывает своего героя в сложном переплетении жизненных, политических и литературных коллизий, раскрывает широчайший круг личных, идейных связей и контактов Герцена в среде русской и международной демократии. Повесть, изданная впервые в 1979 г., получила положительные отклики читателей и прессы и выходит третьим изданием.
Ударивший в колокол - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«ПРИГЛАШЕНИЕ
Вольная русская типография в Лондоне и издатели „Колокола“ празднуют вечером 10-го апреля начало освобождения крестьян в Orsett-house, Westbourn-terrace [54] Орсетт-хауз, Вестбурн-террас (англ.).
.
Каждый русский, какой бы партии он ни был, сочувствующий великому делу, будет принят братски».
Сомнения исчезли. Еще за несколько дней до сегодняшнего праздника Герцен колебался и выспрашивал Огарева — ну, тот был с ним согласен — и политических эмигрантов, конечно, самых уважаемых изгнанников из разных стран, французов — Луи Блана, Таландье, итальянцев — Маццини, Саффи, русских — Кельсиева, Голицына, Мартьянова, поляков — Браницкого, Хоецкого — и даже в письме к сыну домогался: «А стоит ли Александр II, чтобы я предложил в честь его тост?»
Но вот в руках у Герцена только что присланные из России «Московские ведомости» с текстом царского «Манифеста».
— Ты морщишься? — спросил Огарев, заметив гримасу, пробежавшую по лицу Герцена.
— Да нет, манифест недурен. Но слог ужасен, словно его писали не пером, а паникадилами. Бьюсь об заклад, что писал церковник, не иначе как сам Филарет. Попа и в рогоже узнаешь.
Однако все церковнославянские высокопарности, действительно вышедшие из-под пера московского митрополита Филарета, равно далекие как от языка литературного, так и от живой народной речи, Герцен прощал «Манифесту» ради его основного смысла — воли для крестьян.
И немедленно тиснул в «Колокол» заметку: «Манифест». Но даже эта заметка, полная радостных надежд и одобрительных слов в адрес царя, не свободна от опасливой мысли: как бы не сорвалось! как бы не обманули народ! Именно в таком разительном контрасте с оптимистическими упованиями стоят грозные предостережения царю: «Но горе, если он остановится, если усталая рука его опустится. Зверь не убит, он только ошеломлен…»
Надо сказать, что Герцен был вовсе не единственным революционером, которому образ Александра II особенно на мрачном фоне его покойного батюшки Николая I показался поначалу привлекательным. Что уж говорить о Герцене в его чужи, если такой яростный революционер в самой России, как Серно-Соловьевич, представил на одобрение царю свою записку об освобождении крестьян собирался ему же послать свой проект конституции. Этого романтического увлечения фигурой царя-освободителя не избежал и старый заговорщик Бакунин, писавший: «Редко царскому дому выпадала на долю такая величавая, такая благородная роль…»
Правда, Чернышевский в своих письмах к Герцену пытался разрушить его иллюзии о добрых намерениях царя: «Не убаюкивайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, помните, что сотни лет губит Русь вера в добрые намерения царя».
Так-то оно так. Но ведь и сам Чернышевский на какой-то миг поддался этим иллюзиям, когда в своих «Письмах без адреса» обращался к Александру II по поводу предполагаемой конституции.
Конечно, письма Герцена к царю и сейчас вызывают чувство протеста и воспринимаются как заблуждение, пусть временное, его мощного духа, как измена, пусть невольная, его благородным убеждениям, и о них писал Ленин, что их «нельзя теперь читать без отвращения». Впоследствии, разочаровавшись в личности царя, поняв, что, освобождая крестьян, он действовал по принципу «отдай палец, чтобы не отхватили руку», Герцен утверждал, что, обращаясь к царю, он, в сущности, обращался не к нему. Он приводил в доказательство письмо итальянского революционера Маццини к папе римскому Пию IX. Действительно, Маццини, неизменный объект восхищения Герцена, официально-то обращался к папе, но, в сущности, ко всей прогрессивной и революционной Италии. Папа не ответил, но по истинному адресу письмо дошло, и демократическая Италия ответила Маццини делом, то есть взрывом революционного движения за объединение страны. Аналогия эта, бесспорно натянутая, не пригодилась Герцену, ибо в России обращение к царю со стороны левой общественности производило эффект, равный ударам в подушку.
Веселье было в разгаре, и Герцен уже тянул руку к бокалу с вином, чтобы произнести свою речь, как в зал торопливо вошел запыхавшийся и, видимо, очень спешивший Станислав Тхоржевский.
— Наконец-то! — крикнул ему Герцен. — Только вас и ждем, чтобы провозгласить тост.
Тхоржевский почти бегом приблизился к нему:
— Александр Иванович! Несчастье! Царь расстрелял поляков!..
Он протянул Герцену фотоснимки, изображавшие ужасающие сцены расстрела участников мирной демонстрации в Варшаве. Стреляли даже по коленопреклоненным в молитве, по женщинам, детям…
Герцен стал медленно опускаться. Он упал бы, если бы кто-то не подставил под него стул. Обычно красноватое лицо его сделалось сейчас белым, как скатерть на столе. Все смотрели на него с беспокойством, некоторые со страхом.
— Господа… — наконец проговорил он с трудом и замолчал.
Он снова заговорил, но так тихо, что все придвинулись к нему, окружили почти вплотную.
— Господа… Кровь пролилась в Варшаве, славянская кровь, и льют ее братья-славяне… Праздник наш омрачен. Все убито варшавской кровью…
Он повел глазами вокруг себя, на гостей, на стол, щедро уставленный едой, и пробормотал:
— Это похоже на поминки…
Он внезапно поднял бокал и привстал. Многие вздрогнули.
Он сказал окрепшим голосом:
— За полную безусловную независимость Польши, за ее освобождение от России и от Германии и за братское соединение русских с поляками!..
Если март этого года был месяцем счастливых упований, то апрель стал месяцем рушащихся надежд. Злобой дня во всем цивилизованном мире была совершающаяся в России реформа. Естественно, глаза политических деятелей в Европе были устремлены на Герцена — признанный центр русской политической мысли в изгнании: что он думает об этих переменах в России? Действительно ли это бескровная революция сверху или обманный ход со стороны царской власти?
Вскоре истинное мнение Герцена стало известно. Прудон писал ему из Парижа в Лондон:
«Вы так же мало доверяете либерализму вашего царя, как я — либерализму моего императора».
Другой корреспондент Герцена, знаменитый Гарибальди, получил от него такую характеристику царя:
«…В нем слишком много прусского, австрийского и, сверх того, монгольского. Холодно рассчитанный капкан, расставленный Польше с бездушным восточным лукавством, в котором характер кошки берет верх над тигром, ставят его вне вопроса…»
Скорбь и негодование Герцена по поводу расстрела поляков излились на страницах «Колокола» в статье «Mater dolorosa» [55] «Скорбящая мать» (лат.).
. Сколько трагической и беспощадной иронии в его обращении к царю: «Таких ужасов вы не найдете в балладах Жуковского», — язвительное напоминание о том, что воспитателем царя в юности был поэт Жуковский, пестовавший его в слащаво-сентиментальном духе.
Интервал:
Закладка:
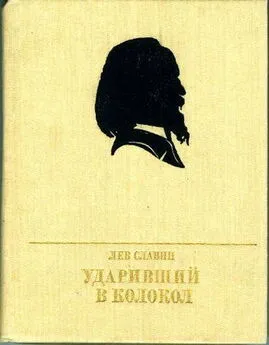
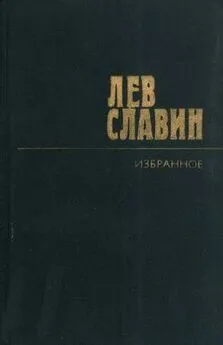
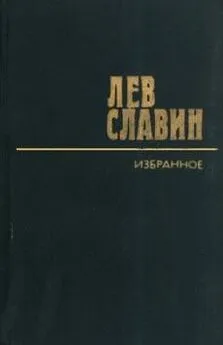
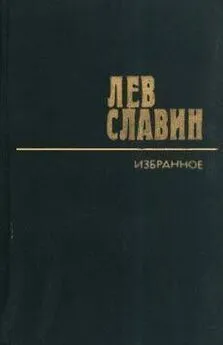
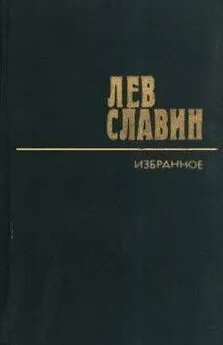
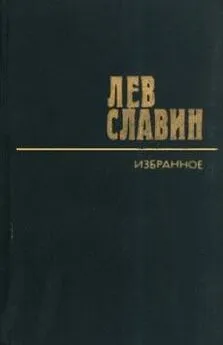
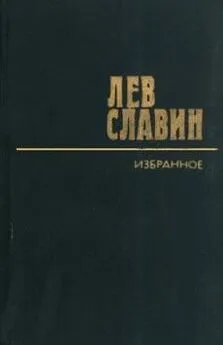
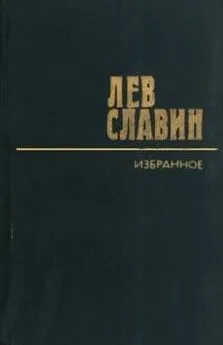
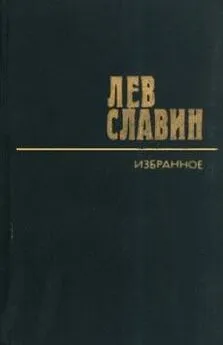
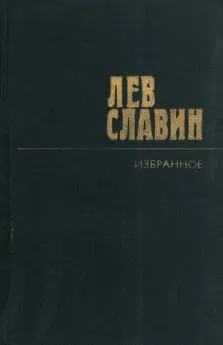
![Лев Славин - Два бойца [сборник]](/books/1079393/lev-slavin-dva-bojca-sbornik.webp)