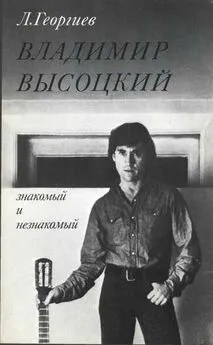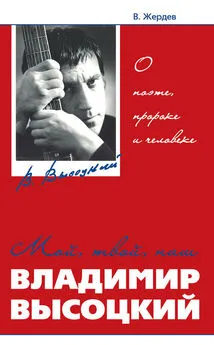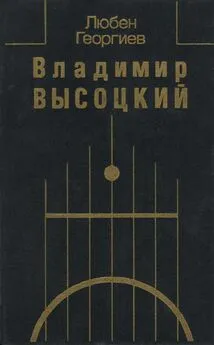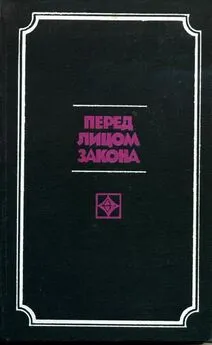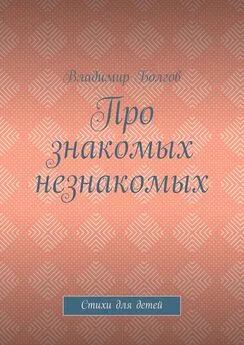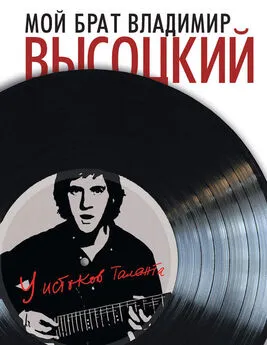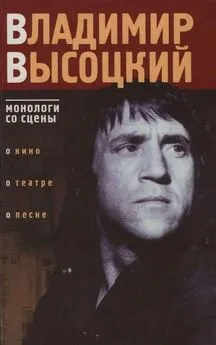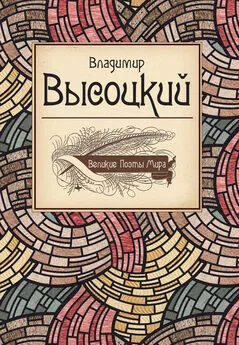Любен Георгиев - Владимир Высоцкий знакомый и незнакомый
- Название:Владимир Высоцкий знакомый и незнакомый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1989
- Город:М.
- ISBN:5—210—00151—2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любен Георгиев - Владимир Высоцкий знакомый и незнакомый краткое содержание
Автор книги, болгарский театровед, доктор искусствоведения, близко знавший В. Высоцкого в течение многих лет, воссоздает достоверный, объемный его портрет — артиста, поэта, певца, человека, гражданина.
Настоящее издание включает главы из одноименной книги Л. Георгиева, вышедшей двумя изданиями в Болгарии
Владимир Высоцкий знакомый и незнакомый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И хорошо, что Высоцкий изредка изменял своему убеждению — художник не должен выступать в роли толкователя своих произведений, — что он не игнорировал записки из зала с вопросами о технологии творчества, что не обходил таких вопросов в своих интервью и разговорах. Это и дало нам возможность, собрав его отрывочные высказывания и соединив их посредством монтажа, получить представление о сущности его взглядов на творческий процесс. Так, в радиоинтервью для Болгарии Высоцкий говорил:
— Люди всегда остаются людьми, и их всегда волнуют одни и те же вечные страсти. И меня занимают темы и проблемы, которые вечны: любовь, ненависть, горе, радость. Все очень просто. Форма только разная. Вот играешь Гамлета — он ведь может жить и сейчас, точно так же и теми же проблемами мучиться. Все задают себе вопрос «Быть или не быть?» в какой-то момент.
А вот еще одно его высказывание по очень существенной проблеме, на этот раз более развернутое, с изложением всей концепции:
— Какова роль жизненного опыта в художественном творчестве? Это только база. Чтобы творить, человек должен быть наделен фантазией. Он, конечно, творец и в том случае, если рифмует или пишет, основываясь только на фактах. Реализм такого рода был и есть. Но я больше — за Свифта, понимаете? Я больше за Булгакова, за Гоголя. Жизненный опыт?.. Но, представьте себе, какой уж такой гигантский жизненный опыт был у двадцатишестилетнего Лермонтова? Главное — свое видение мира. Другой вопрос — можно ли создавать произведения искусства, обладая повышенной чувствительностью и восприимчивостью, но не имея жизненного опыта? Можно. Можно, но лучше все-таки его иметь… немножко. Потому что под жизненным опытом, наверно, больше всего понимается то, что жизнь била вас молотком по голове, а если говорить серьезно, — страдание. Настоящего искусства без страдания нет. И человек, который не выстрадал, — хотя не обязательно, чтобы его притесняли или стреляли в него, мучили, забирали его родственников и так далее, — такой человек творить не может. Но если он в душе, даже без внешних воздействий, испытывал это чувство страдания за людей, за близких, вообще за ситуацию, — это уже много значит. Это и создает жизненный опыт. А страдать могут даже очень молодые люди. И сильно страдать.
Искусство, помимо всего прочего, — это сострадание, сочувствие. Эти чисто человеческие свойства были им утрачены в период схематизма, когда на такие чувства смотрели как на мягкотелость, интеллигентщину, слабость. Сострадание и милосердие считались чем-то сомнительным, аполитичным, разлагающим. Они якобы были принадлежностью буржуазного искусства, а нам не были свойственны. Поэтому в борьбе против схоластики и догматизма, за очеловечивание социалистического искусства не могли не быть реабилитированы исконные человеческие добродетели, ставшие почти что синонимами гуманизма.
Владимир Высоцкий отвел состраданию и сочувствию большое место в своей эстетике, что явствует и из приведенных его высказываний.
Не нужно объяснять, сколь важными для нас сегодня являются эти мысли. Они выражают глубокое внутреннее убеждение художника. Экспромтом в случайных ответах случайной публике Высоцкий делится самым сокровенным. Конечно, эти мысли витают и в атмосфере времени, выдают связи с великими гуманистами XIX века — Достоевским и Толстым, но они ни у кого не заимствованы. Высоцкий дошел до них собственным опытом, поэтому они принадлежат лично ему. Он не готовил их специально для какого-то конкретного случая, не читал с ораторским пафосом. Он высказывал их и развивал в студии и в зрительном зале, как бы рассуждая вслух, перед микрофоном.
Добавлю еще, что подобное впечатление о сиюминутном возникновении оставляют и многие его песни. Словно творческая искра вспыхивает здесь, перед нами, от контакта с публикой и дает толчок рождению песни. Он почти импровизировал, не только предваряя исполнение той или иной песни, но и подавая их. Может быть, располагая большими данными о том, как протекал у него творческий процесс, мы могли бы увереннее говорить об этом сейчас. Но, повторяю, Высоцкий ревниво скрывал, как работает над созданием стихотворений и песенных текстов. Я перелистывал его рукописи, всматривался в необычайно мелкий его почерк с надеждой найти какую-нибудь путеводную ниточку. Напрасный труд. Мне удалось обнаружить какие-то поправки, замену слов, но ничего больше… Он скрывал свои творческие муки в работе над словом, не допускал в свою художественную лабораторию чужой любопытный глаз. Он даже и слова «лаборатория» не употреблял, а говорил совсем просто, прозаически и ненаучно — кухня. И предусмотрительно отводил незаданные вопросы возражением: «Что интересного в моей кухне?» Важна не технология ремесла, — пытался он нам внушить, — важен конечный результат. Ничего таинственного в творческом процессе нет.
Поэтому и заслуживают столь большого внимания редкие высказывания Высоцкого, касающиеся методов его творческой работы. Конечно, если бы я в свое время задался целью написать его творческий портрет, я бы засыпал его вопросами: как он пишет, как создает мелодии, записывает ли их нотными знаками или рассчитывает только на магнитофон, на что обращает внимание при сочинении песни, когда решает, какому куплету стать припевом?..
С удивлением и радостью я еще сейчас нахожу то тут, то там короткие фразы Высоцкого, которые можно принять за ответы на поставленные выше вопросы. Например, однажды он признался:
— Обычно мне кто-то что-то рассказывает или я сам что-то вижу, потом это откладывается и когда-нибудь всплывает (я сам даже не знаю когда) в какой-нибудь из вещей…
В другой раз на традиционный вопрос, как рождаются его песни, он тоже легонько приоткрыл занавес:
— Рождаются необычно. Вдруг сердце начинает сильно биться. Просто невозможно лежать. Встаю, начинаю ходить по комнате и чувствую: песня вырывается наружу, сама вырывается.
Но встречаются и высказывания более обстоятельные:
— Вот ты работаешь, сидишь ночью… И тут словно кто-то шепнет тебе… Напишешь строку… Вымучиваешь… Потом — песня уже с тобой, иногда она мучает месяца по два. Когда «Охоту на волков» писал, она меня замучила. Мне ночью снился один припев. Я не знал, что буду писать. Два месяца звучало только: «Идет охота на волков, идет охота…» Песня все время с тобой живет, не дает возможности спокойно отдыхать. Она все время тебя гложет, пока ты ее не напишешь…
Что же касается самой «технологии» этого процесса, Высоцкий описывал ее так:
— Сейчас, в последнее время, я уже больше работаю с белым листом бумаги и ручкой, но всегда со мной рядом гитара и магнитофон. И иногда приходит раньше мелодия, иногда приходит раньше ритм, иногда приходит раньше текст.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: