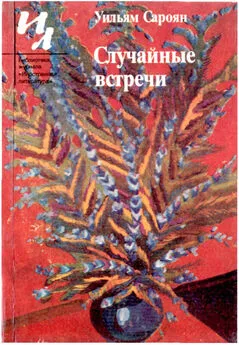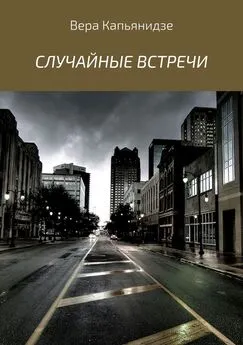Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи
- Название:Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0461-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи краткое содержание
Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. «Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов. «Воля случая» является одним из лейтмотивов записок, поэтому вторая часть называется «Случайные встречи». Они в основном посвящены отношениям автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой… О. Матич – специалист по русской литературе и культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.
Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эпизод, что и говорить, аппетитный (а для меня лестный, так что опровергать и деконструировать будет жалко). Ну, во-первых, отменный name dropping – сразу трое худо-бедно известных персонажей; во-вторых, экзотический, немного аксеновский, антураж – легко угадывающаяся Америка плюс африканские страсти; в-третьих, любовный треугольник с ожидаемым мордобоем; в-четвертых, научно-филологический план – владение языками, составление грамматик, знакомство с литературой; и, last but not least, в-пятых, драматическая развязка с эффектным хеппи-эндом. И притом чистейшая правда, со ссылкой на источники (см. «во-первых»).
Вроде бы по частям все так. Сомали я изучал, книгу о нем написал, за Ольгой ухаживал, негр был, конфликт без драки имел место, и обо всем этом мы с Ольгой могли рассказать Татьяне. Но в целом – откровенный лубок, да еще с густым романтическим налетом: «В волненьи… Пораженный… кинулся обниматься», этакий «Выстрел». (Пушкин здесь поминается не всуе: на мысль о нем наводит и бескровная дуэль, и африканский колорит [528], и самый прием нанизывания на мифогенную фигуру – мою! – невероятных анекдотов.)
Ну да, конечно, мне виднее – я-то точно знаю, что никаких объятий, а тем более речей на сомали не было. А ему откуда знать? Ему рассказывают, он записывает. Можно, конечно, переспросить – Татьяну, меня (мы всегда оставались on speaking terms), наконец, Ольгу. Но для этого в сознание должны закрасться какие-то сомнения относительно головокружительного сюжета, предполагающего, что первый попавшийся американский негр… почему-то оказывается носителем редкого африканского языка, как раз известного его сопернику. Сомнения, которых естественно ожидать от специалиста по Чехову при столкновении с изделием типа «Мороз крепчал» [529].
Я передаю эту сцену словами Жолковского, чтобы потом «вышивать» на них. Во-первых, он лучше владеет слогом, чем я. Во-вторых, он правдиво описывает начало наших отношений. (У меня действительно много лет был чернокожий друг Кен Нэш, помогавший мне воспитывать дочь [530].) В-третьих – а на самом деле, наверное, во-первых – посредством этой виньетки я текстуализирую (простите, бога ради, за jargonisme) некоторые аспекты своей личной жизни. Недостаток смелости заставляет меня подменять свой голос чужим; в словах Алик тоже смелее, и за смелость я его люблю.
Мне нужно зеркало, но не тот семейный трельяж, о котором я пишу в другом месте как о символе памяти, а «чужое» зеркало, в котором читатель может увидеть меня. Мой поступок можно назвать нарциссическим; я как будто кокетливо прячусь за чужую словесную спину. Нарциссизм Алика более откровенен, чем мой, хотя в этой виньетке он говорит о себе косвенно, комментируя рассказ другого человека, к тому же выявляя в этом рассказе подтексты, он его «расширяет». Правда, я делаю то же самое, только несколько иначе. У нас получились изрядно нарциссические тексты, «вышитые» по чужим. Ведь шитье, как, например, нить повествования, стало частью метафорического литературного языка.
Игра в слова и интертексты – так можно определить и прозу Алика, и его нон-фикшен: от рассказов он перешел к мемуарным виньеткам. Впрочем, уже его рассказы были во многом мемуарны. Именно поэтому моя мать разволновалась, прочитав «Жизнь после смерти» и встретив там известные ей факты из биографии Алика, например автомобильное происшествие в горах [531]. Повествователь сначала описывает отношения с двумя своими женами, а потом переходит к третьей возлюбленной (вроде бы знакомая маме биографическая канва). Затем следует договор о двойном самоубийстве (здесь для нее начинается «ой-ой-ой!»); умирает только женщина; убил ее повествователь или нет – непонятно. Пересказываю сюжет так, как он, скорее всего, виделся маме, позвонившей мне в перепуге.
Даря моим родителям свой сборник, Алик подписал его так: «Дорогим «out-laws» от автора». Имеется в виду каламбур на «in-laws» (родители жены или мужа), в буквальном смысле означая «в законе»; out-laws, соответственно, означает «вне закона», а слово outlaw без черточки – это разбойник.
Нетрудно догадаться, что рассказы и виньетки Жолковского изобилуют иронией; как я пишу во вступлении, рядом с ним я лучше осознала установку позднесоветской элитарной интеллигенции на избыточную иронию, замещающую прямое выражение своих чувств и мнений. В ней, как и в направленности на слово (и – отдельно – на цитату), проявлялся своего рода дендизм, заключавшийся в отмежевании себя от других, существовавших в другом дискурсе.
В некоторых виньетках Жолковского в комическом ключе описаны различия между российским и американским социальным и культурным бытом. Свою рецензию на «НРЗБ» Михаил Ямпольский назвал «Эмиграция как филология»; эти рассказы действительно посвящены филологии, но отражается в них и состояние Алика в эмиграции. Так, в рассказе «Жизнь после смерти» повествователь говорит: «Я хочу, чтобы вы ощутили то, что ощущал я, чувствовавший себя погребенным заживо в этом лучшем из миров» [532], имея в виду американское описание жизни в США (иногда ироническое): «the best of all worlds». Это – в «трагическом» ключе, но есть и ностальгический: в 1980-е годы мне иногда казалось, что Алику «…хочется домой, в огромность / Квартиры, наводящей грусть» – притом что ностальгию он всячески отвергал. У него есть статья, посвященная этому стихотворению Пастернака [533], которое он помещает в контекст «искусства приспособления» [534]. Она была написана в эмиграции, когда самому автору пришлось адаптироваться к новой жизни, чтобы не сказать ко «второму рождению» [535]. Это оказалось нелегко.
Впрочем, советской власти больше нет, Алик регулярно возвращается в свою московскую квартиру на Садовой-Триумфальной – и, как он мне говорил, через некоторое время его начинает тянуть обратно в Санта-Монику: позагорать на крыше тамошней квартиры, прокатиться на велосипеде вдоль Тихого океана по специально проложенной по пляжу дорожке. Так проявляется двойственность диаспорического бытия – состояния «между». Как любил повторять Жолковский, «против инварианта не попрешь». В конечном счете он всюду чужой. Мне это понятно, хотя Алика отчуждает и его внутреннее одиночество.
В его рассказах и виньетках американское / западное и российское пространства накладываются друг на друга, образуя некий палимпсест. В моем любимом рассказе «Родословная» это промежуточное состояние выражено через гендерную и географическую неопределенность: мы слышим голос нигде не укорененного рассказчика неясной половой принадлежности, в образе которого можно разглядеть экзистенциальную неприкаянность автора и его тоску по целостности.
В рассказах тех лет также мерцает мотив славы, поданный, впрочем, иронически. В Америке Алику недоставало того профессионального признания, которое он получил в постсоветской России. Обретение статуса своего рода культовой личности существенно ослабило чувства неудовлетворенности и эмигрантской неукорененности. Ощущение недостатка признания свойственно нарциссической личности. Не знаю, как теперь, но прежде Алик часто заглядывал в различные отражающие поверхности, чтобы убедиться в своем существовании. Мне казалось, что так проявляется глубокая детская травма, которую психоаналитик Хайнц Кохут определил как «недоотраженность» младенца в зеркале безусловной материнской любви: когда Алику еще не было года, его отец утонул в Белом море. Алик с этим толкованием согласился. Ему повезло с отчимом – известным музыковедом Львом Абрамовичем Мазелем, с которым у него были самые близкие отношения. В отличие от человека, пустившегося в 1938 году в вояж по Белому морю, Лев Абрамович и мать Алика боялись рискованных поступков; свою любовь к риску он, видимо, унаследовал от отца, на которого и внешне похож.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: