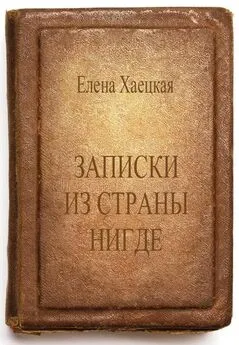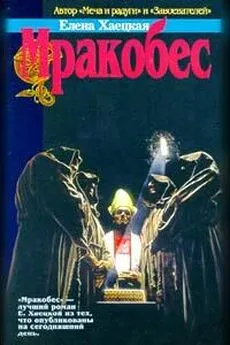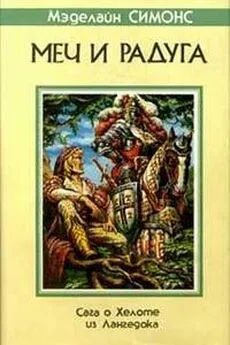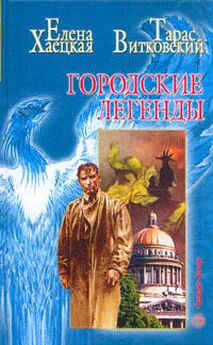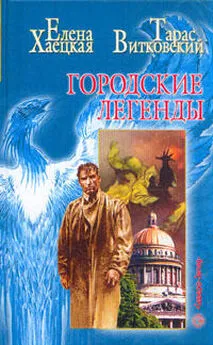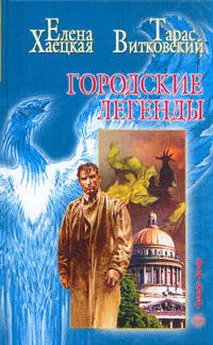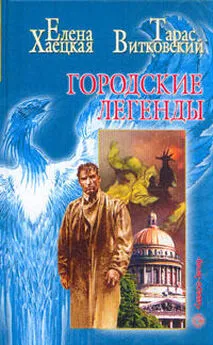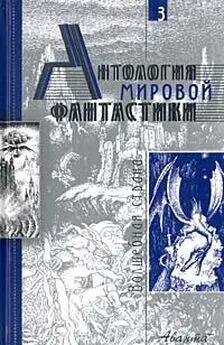Елена Хаецкая - Записки из страны Нигде
- Название:Записки из страны Нигде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Хаецкая - Записки из страны Нигде краткое содержание
О фэнтэзи, истории, жизни...
Записки из страны Нигде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я думаю, что Тургенев просто не мог не описывать эти холмы. Это было сильнее его. Природа Орловской губернии такова, что ее прямо тянет описывать, причем многословно, взахлеб, назойливо! После этого опыта я «простила» Тургеневу и «Бежин луг», и все остальное… Хотя любить это по-прежнему не могу.
В какой-то мере, сдается мне, восприятие описаний природы сродни восприятию поэзии. Если человек, как я, абсолютно глух к булькающим переливам лирической поэзии, то для такого человека и описания природы будут чем-то вроде бессвязного «чик-чирик-чирик-ура». Если человеку нравятся русские стихи, где много музыки, много эмоций и почти нет содержания, то, конечно, ему понравится держать на языке эту сладкую медленно тающую карамельку – описания природы.
Взять самые чудовищные, наверное, в мировой литературе описания природы – у Фенимора Купера. Вообще Купер молодец, потому что все, что у него имелось сказать касательно природы Нового Света, он собрал в начальные страницы и вывалил там. Открываешь роман «Зверобой» в ожидании экшена и индейцев - а там страниц на пять (в старых, несокращенных изданиях – едва ли не на пятнадцать) – описания лесов, рек, озер, бескрайности, бездонной высоты, индейских верований, христианских миссионерских представлений, кустарников, животного мира… И все это звучит как симфония, которую слушаешь, ерзая на неудобном стуле в концертном зале. Круто, красиво, но скорее бы уж закончилось. Не столько вкус нравится, сколько послевкусие.
Потом уже (по крайней мере, в сокращенном издании) герои будут просто ходить по этому лесу и попадать в разные истории, но образ гигантского храма природы, храма гораздо более высокого, страшного, обширного, нежели привычные нам европейские, обжитые леса, - этот образ в памяти читателя уже остается. По большому счету, Купер мог ограничиться максимум пятью фразами, эффект был бы тот же, но он, в частности, писал для людей, которые не представляют себе американских масштабов. Ему надо было пробиться сквозь толщу мещанских представлений о «лесах» и «озерах» - дать понять, что здешние леса и озера это хоть и родственники ручных лесов и озер той же Англии, но они огромные и дикие. И люди там такие же. И еще там водится индейский дух Маниту, он тоже не подарочек. А нетерпеливые могут просто пролистать эти начальные страницы.
Лично я в литературных произведениях люблю отчетливость и определенность. Если описано место действия – то мне надо точно знать, для чего оно описано. Не почему появилось подобное описание (Купер или Тургенев не могли сдержать восторга – «от избытка сердца глаголят уста»), а для чего оно нужно конкретно мне, читателю.
Вот на пробу первая попавшаяся книжка – советского узбекского писателя Хамида Гуляма «Светоч», она как раз начинается с описания природы:
«Над горами, над долинами летят быстрые тучи, то и дело роняя дожди. Ущелья гремят потоками, взбух и помутнел Чирчик, а тучи летят без конца; дожди барабанят по камышовым крышам, по улочкам Кумкишлака; листва тополей трепещет в мокром воздухе и срывается в грязные лужи».
Все. На этом автору следовало бы остановиться. Но он не остановился. Он все описал: осень, погоду, место действия. Там дальше будет еще на страницу погоды-природы.
Это советский писатель, времени у него много, места в книге много, поэтому он охотно поговорит и о лете, и о полях, которые зеленели, потом зазолотились, т.к. созрел урожай, - и т.д… Вот и ответ на вопрос, почему описания природы обычно читаются по диагонали. Там много ненужного. Ненужного мне, читателю.
Если подробностей в описании пейзажа много, значит, эти подробности должны работать: служить укрытием, стать препятствием, быть объектом приложения сил (большое поле, которое надо вспахать, или бескрайний лес, который надо перейти). Природа ради природы или как нечто, что оттеняет настроение персонажа, - для этого достаточно, по моему мнению, маленькой детали, загогулины наподобие иероглифа, а в ряде случаев подробности вообще излишни: достаточно сказать – «дождь», «ночь», «буря». Если буря, то зачем она потребовалась в сюжете: сорвать с героя шляпу, загнать его в дом, подчеркнуть плохое или хорошее настроение, сбить с пути? А если буря просто так, то зачем описывать все эти гнущиеся деревья? Мы что, бури никогда не видели? «Валы волн, набрасывающиеся на скалы», «разорванные тучи, несущиеся по небу…» Я вас умоляю! Кто станет это читать? Кому это вообще надо?
Но это, конечно, взгляд сугубого прагматика.
Кроме того, существуют и описания природы, которые мне нравятся, и даже русские стихи, которые я понимаю, люблю и знаю наизусть. Везде найдется место исключению, потому что чтение – не точная наука.
"Романы взросления"
00:00 / 28.09.2018

Считается, что человек любит говорить о самом себе. Любит, когда с ним разговаривают о нем самом. Читает в книгах «себя». Наверное, в какой-то мере так оно и есть. Возможно, с наибольшей силой это проявляется в подростковом возрасте, когда взрослеющий человек внезапно обнаруживает, что мир не такой, каким казался еще в прошлые каникулы, и что он сам, подросток, тоже совершенно неожиданное существо. Жуткую догадку насчет родителей – что и они не только источник благ, наказаний, правил и карманных денег, - подросток старательно гонит от себя…
Вот тут самое время для «романа взросления» - для книги, которая поговорит с подростком о нем самом и о том, что такое, в первом приближении, «реальный мир». Позднее, набравшись сил и «мяса» (во всех смыслах, в том числе и в физическом), человек уже получает возможность немножко этот мир изменить, обустроить себе там берлогу, больших или меньших размеров, - но для подростка самое главное – познание. Он должен собрать информацию о том континууме, где, как выяснилось, он находится.
Обычно кажется, что ребенка в мир «выбросили» обстоятельства, но на самом деле когда подходит возраст – а «обстоятельства» почему-то не наступили, - ребенок с успехом моделирует их сам при помощи знаменитого подросткового бунта.
О подростках пишут много и постоянно, поскольку тема благодарная и фактически неисчерпаемая. Однако очень немногие из современных книг не могут быть заменены гораздо более качественными аналогами из прошлого: «Убить пересмешника» и «Над пропастью во ржи».
Советские аналогичные произведения выводили подростка в мир революционного подполья («Динка»), гражданской («Школа») или Великой Отечественной войны («Васек Трубачев»). Потом уже наступило прекрасное советское безвременье, когда конфликты, необходимые для взросления, приходилось изобретать искусственно («Вам и не снилось»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: