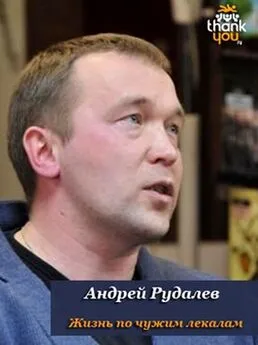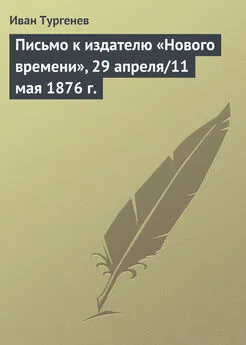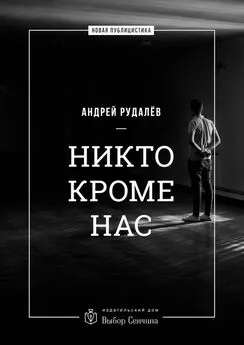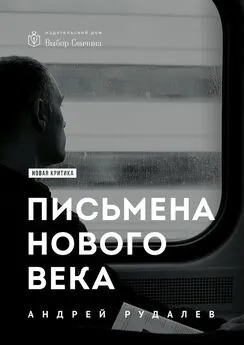Андрей Рудалёв - Письмена нового времени
- Название:Письмена нового времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Рудалёв - Письмена нового времени краткое содержание
О литературном процессе Рудалёв пишет беспощадно и обличающее: «Литературная жизнь у нас консолидируется вокруг издательств, «толстых» журналов, всевозможных премий престижных и не очень. Писатель таким центром практически не является. Читатель в этом высококалорийном, но не всегда полезном для души и тела вареве либо вылавливает натренированной рукой наиболее аппетитные куски, либо наобум лазаря черпает — что попадется».
Письмена нового времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сейчас мы пребываем в периоде “выжидания”, когда велики надежды и привкус разочарования еще не горчит на губах. Сладостный на самом деле период. Но это еще само по себе не новое, а лишь подготовка к нему, “выжидание”. Это имитация новизны.
Об имитации свидетельствует безъязыкость, скудость языковых выразительных средств. (А как иначе, ведь перед нами черновики, наброски, тезисные реплики.) Жанна Голенко (Здравствуй, племя младое… знакомое? Вопросы литературы. 2006. № 1) говорит о новом литературном поколении, употребляя маркировку “безъязыкое поколение”. И тут же полемизирует с ней: “Нет, эти авторы заявляют о себе бойко, их стилистика напориста, динамична. Они даже не говорят, а сразу кричат, так как боятся (и не без основания), что их не услышат”.
Крик — разве это не имитация слова. Крик — слово, теряющее смысл, звукосочетание воздействующее на наши эмоции и органы чувств. Помните “Ура!” Сергея Шаргунова?..
Об этой безъязыкости пишет и Валерия Пустовая: “С языковой точки зрения реалистов как самостоятельных авторов не существует. Они одинаковы в слове, их было бы трудно отличить друг от друга на слух, без напечатанной вверху фамилии. Сами реалисты любят объяснять свою безъязыкость подражанием “улице”, образом выловленного из толпы рассказчика. Как будто мало того, что раньше улица корчилась безъязыкая — пусть теперь и словесность поколбасит от косноязычия. Не той же ли ссылкой на ограниченность “толпы” оправдывают СМИ опубликованные ими и выведенные в эфир репортажи о голых телах и криминальной резне? Не пора ли увидеть в публике новые горизонты интересов, способность к постижению более сложной фактической и художественной информации?”
Все-таки писатели не только идут на поводу, не всегда только подчиняются реальности, они и осваивают ее. Как это у Пустовой: “Реальность — это то, что должно быть преображено”. Осваивают по-разному, и здесь действительно сложно и преждевременно говорить о какой-то общности, которая пока еще — лишь красивая метафора.
По мне “новый реализм” — это Александр Карасев, Ирина Мамаева, Дмитрий Новиков. Авторы, работающие не по принципу “что вижу, то пишу”, а искренне проживающие ситуацию. Их текст излучает зрелую человеческую мудрость. Мудрое видение, переживание мира — вот что такое реализм.
“Новый реализм” — это особое переживание действительности. Переживание напряженное, до боли, до надрыва, до отрицания. Верх реалистичности, верх освоения мира — в его отрицании, в воспевании “внутреннего человека”, в культивировании собственного субъективного взгляда. Отсюда предельная концентрация смысла в каждом слове-образе. Как в “Маргинале” Александра Карасева:
“— Да какая жизнь, — говорю — работа одна.
— А ты брось такую работу, и живи…”
Слова эти простые, понятные и в то же время необычные, неожиданные — своеобразный ответ на призыв Пустовой: “Мастерство нового реалиста — в умении не столько отражать, сколько трактовать действительность: он должен уметь, как древний прорицатель, узнавать надмирные истины, копаясь во внутренностях птицы-жизни. Новый реализм — это когда критику есть работа по разгадыванию внутреннего, не декларируемого прямолинейно смысла произведения. Реалистические произведения без тайны выхолащивают мысль критика”.
Реализм в Средневековье — это ориентация на единственную и высшую реальность, которой является Бог. И для нас реализм, в отличие от натуралистичности, — это ориентация на сакральные величины. Отсюда особое сопряжение реализма как метода с современностью. Современность, реальность в литературе кардинальным образом отличается от того, что предлагают нам жанры литературной журналистики. Современность — это не та злоба дня, навязываемая нам набившими оскомину образами проституток, бандитов, “новых русских”, олигархов…
Вообразите себе картину: в середине XXI века на уроке истории учитель рассказывает ученикам, что самые характерные приметы России рубежа XX–XXI веков — бандиты, проститутки, макдоналдсы. И все. Остальное — из разряда архаики…
Сейчас мы все живем ощущением нового, предчувствием нового. Но из чего и как оно вырастает? У Ирины Мамаевой — через традиционное начало, прикосновение к глубинным корням народного духа, у Дмитрия Новикова — через личный опыт, через вчитывание в корпус лучших произведений отечественной литературы, через исключительное языковое чутье. Современность в литературе не должна рассматриваться как некое мгновение вне какой-либо взаимосвязи с прошлым и вне выхода в гипотетическое будущее. Понятие “современность” не обязательно связано с понятием новизны. Это часто — ситуативная интерпретация традиции в данный конкретный момент, акцентуация взгляда на отдельные аспекты ее. Если хотите, оно не из разряда эмпирики, а, в первую очередь, система общественных и личностных взаимоотношений, система основополагающих ориентиров, на которые опирается общество и каждый человек отдельно в данный момент и всегда.
В связи с этим выскажу крамольную мысль: литературоцентризма в России никогда не было. Просто здесь литература долгое время была рупором, призванным в секуляризованном государстве возвещать о духовно-нравственных ценностях. Учительный характер литературы XIX века как раз и является прямым следствием этого.
“Кто, если не сами молодые литераторы, заинтересован в формировании эстетической и мировоззренческой идеи своего творческого поколения?” — такими словами Валерия Пустовая заканчивает свою статью-манифест, и, несмотря на огромное количество частных разногласий, в этом я с ней соглашусь.
Разумеется, молодые критики со всеми основаниями входят в круг молодых литераторов.
Дайте слово критику, не затыкайте ему рот!
НОВОЕ ИКОНОБОРЧЕСТВО
Сейчас никто не ставит под сомнение, что Россия находится на очередном переломном этапе своей истории. В этих условиях наиболее остро стоит вопрос о путях дальнейшего развития, о построении объединяющей, гармонизирующей общество целеустановки, ориентира (слово «идеология» сознательно игнорируется ввиду дискредитации его в новейшей отечественной истории).
Подходить к этой проблеме, на наш взгляд, следует крайне осторожно и предельно корректно. Все или, по крайней мере, многие беды и несчастья нашей Родины происходят в силу навязывания ей некой искусственной теории, идеологемы, которая объявляется единственно верной. Основной механизм внедрения такой идеологемы — это отрицание прошлого и, как следствие, размывание своего «я», утрата истинного облика. В этой связи вспоминается фантастический фильм «Чужой», где инородное тело постепенно подчиняет себе весь организм, вначале оставляя его внешне прежним, но на каком-то этапе кардинально меняет облик до чудовищного…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: