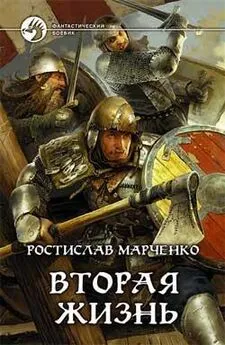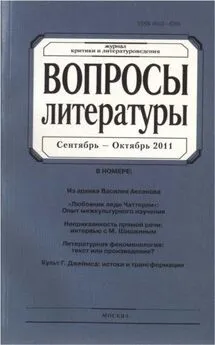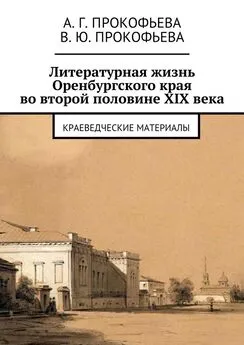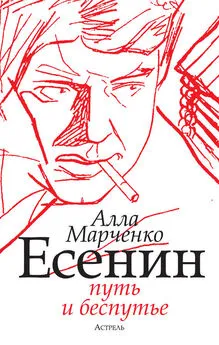Алла Марченко - Ахматова: жизнь
- Название:Ахматова: жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-054551-3, 978-5-271-22703-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Марченко - Ахматова: жизнь краткое содержание
«Ахматова: жизнь» не научная биография поэта. Автор строит вокруг стихов Ахматовой своего рода «расследование». Пытается разгадать, кому они посвящены, кто герой. Стихи свидетельствуют, спорят, опровергают, вынуждают «развязать язык» факты и документы и поведать то, о чем в свое время из осторожности умолчали…
Ахматова: жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все вышеизложенное позволяет, на мой взгляд, прояснить, пусть и в порядке предположения, два темных и недатированных наброска: «Обыкновенным было это утро…» и «О! из какой великолепной тьмы…». Комментаторская версия, которой придерживается и Н.В.Королева, упорно привязывает их к 1956 году, подгоняя диптих (две вариации на одну тему) под канонизированный сюжет.
Логика комментаторов такова: в августе 1956-го Ахматова узнала о предполагаемом приезде в Москву Исайи Берлина и начала-де грезить, разыгрывая в воображении сцену встречи с ним десять лет спустя. Могу обрушить на читателя поток доказательств неправоты берлинистов, но, думается, хватит и трех.
Во-первых, в словах героя, вернувшегося «из самой окончательной разлуки», лирическую героиню второй части диптиха поражает то же, что и Г.Л.Козловскую в позднем признании мужа: немыслимая, несовременная чистота:
…………………………………………….
Ты говорил о том, о чем помыслить
Уже немыслимо. И ты пришел сказать,
Что ты дал клятву и ее исполнил.
И это было… так прекрасно,
Так бескорыстно, так великодушно!
и чистотой посмертной
Звучал твой голос – в бездны чистоты,
Казалось мне, я окунула душу.
Во-вторых, в диптихе точно обозначено время действия: не роковой август, а поздняя весна: «Обыкновенным было это утро / Московское и летнее почти что».
В-третьих, в ночь на 16 ноября 1945 года в долгочасовом разговоре Ахматовой и Берлина Данте не возникал, тогда как в диптихе, точнее, в первой его части и присутствие Данта («…так нам его описывает Дант»), и связанные с высоким присутствием ассоциации – значимые элементы несущей «арматуры». Н.В.Королевой они описаны, но не объяснены и, конечно же, не соотнесены с дантовскими вечерами в ташкентском доме Козловских. Правда, и Галина Лонгиновна описывает ташкентские дантовские чтения, не вникая в подтекст: «Я не понимала слов, когда она читала Данте, но меня завораживала музыка слов и ее низкий чарующий голос. Я глядела, как чудесно поднимается ее верхняя губка и как ее удивительная рука, маленькая и изящная, иногда отмечает в воздухе ритмы терцин».
И тем не менее описанный Н.В.Королевой источник скрытых полуцитат (ожидание Беатриче, приближение Беатриче, встреча с Беатриче, описание Беатриче), то есть те фрагменты «Божественной комедии», которые Ахматова особенно любила и часто читала наизусть, – еще одно подтверждение, что к Берлину данные тексты не имеют ни малейшего отношения. Единственный окололитературный комплимент, который поздней ноябрьской ночью 1945-го английский гость ей сделал, – сравнение с Донной Анной, и то – не пушкинской: «Внимая истории любовной жизни, он сравнил ее с Донной Анной из "Don Giovanni" и рукой, в которой была сигара, воспроизводил в воздухе моцартовскую мелодию». В ответ на этот жест Анна Андреевна, по-видимому, и выхватила из книжного беспорядка байроновского «Дон Жуана», естественно, на языке оригинала. [62]
В течение полувека Исайя Берлин будет рассказывать всему свету по секрету, что английский язык почтенной русской дамы был настолько чудовищен, что он не узнал ни единого слова, даже не угадал, какие именно фрагменты из «Дон Жуана» услышал в ее исполнении.
Неужели дама этого не знала? Знала, и еще как знала (этот момент они с Козловской-Герус еще в Ташкенте выяснили). Так почему же так подставилась? И вообще, зачем было читать аглицкому гостю Байрона, а не русских, не известных ему поэтов? Скажем, Гумилева, которого Берлин, по его же признанию, совершенно тогда не знал? И какие именно фрагменты из «Дон Жуана» она выбрала, хотя, повторяю, прекрасно знала, что ее английское произношение из рук вон плохо? Да и времени было в обрез – до полуночи засиделась какая-то ученая особа, а в три ночи уже вернулся Лев Николаевич. Смею предположить, что, вероятнее всего, читана была та часть второй песни романа, где речь идет о потерпевших кораблекрушение, которые, сходя с ума от голода, убивают и съедают одного из спутников Жуана. Перечтите эти октавы в переводе Татьяны Гнедич – лично я ничего страшнее в европейской поэзии ХХ века припомнить не могу. Известный сюжет из клюевской «Погорельщины», где односельчане засаливают синеглазого Васятку, – детская сказочка по сравнению с этими жесткими и жестокими сценами, особенно если учесть, что Байрон неоднократно подчеркивал абсолютное соответствие своего рассказа с реальными фактами, и Анна Андреевна это знала. О случаях людоедства в блокадном Ленинграде, о том, что сосед Пуниных, Женя Смирнов, умирая от голода, спрашивал у жены, кого из детей они съедят сначала, а кого потом, впрямую, как с Людмилой Шапориной, [63]Ахматова с иностранцем, естественно, говорить не осмелилась. А вот намекнуть, использовав известный литературный сюжет, очень даже могла, как намекнула в «Поэме без героя», сравнив блокадный Ленинград с осажденным Тобруком: «Это где-то там – у Тобрука, / Это где-то здесь – за углом». (Смысл сравнения убедительно разъяснен в мемуарах Э.Г.Герштейн. [64])
Впрочем, будем снисходительны к господину Берлину: он ничего не понимал в стихах, ни в русских, ни в английских, как, впрочем, и в художественной прозе. Да, почти завидовал яркости и колокольной силе публицистики Герцена, но для внутреннего пользования предпочитал чего попроще: в романистике – Тургенева, в музыке – Верди, то есть все то, что его собеседница хуже чем не любила – не замечала. Гость из будущего, конечно, запомнил, что Ахматова решилась прочитать ему две песни из «Дон Жуана», «поскольку они имеют отношение к последующему», а вот какое именно отношение – не сообразил, хотя за декламацией последовало чтение «Поэмы без героя»: на поверхности «святочный карнавал», а по сути памятник ее друзьям, их судьбам, своего рода «ныне отпущаеши»…
Но мы несколько опередили события. Оставим пока в покое сэра Берлина и вернемся к графу Чапскому и к стихотворению «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…».
Согласившись, что свидетельские показания Галины Лонгиновны Козловской подтверждаются реалиями ахматовского стихотворения, Н.В.Королева тем не менее наиболее достоверной считает догадку Л.К.Чуковской, так как она «поддержана самой Ахматовой». На самом деле сама Ахматова, сужу по ее «Записным книжкам», эти стихи с именем Чапского не связывала. В ее тетрадях он упоминается в числе тех, кто по достоинству оценил и понял «Поэму без героя», как «некто Ч.<���апский>, который в Ташкенте в 1942 году (после того как была прочитана «Поэма без героя». – А.М.) церемонно становится на одно колено, целует руки и говорит: «Вы – последний поэт Европы»». [65]
По воспоминаниям той же Э.Г.Герштейн, столь же лично, сливая в одно «где-то там» и «здесь за углом», смотрела Анна Андреевна итальянский фильм «У стен Малапаги». Сначала несколько раз одна, потом зазывала друзей, поясняя: Это наше. Это и про нас.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: