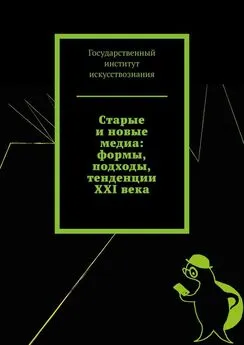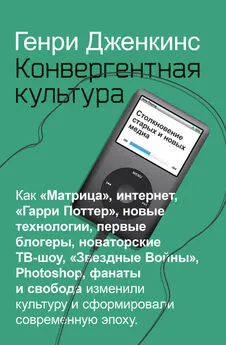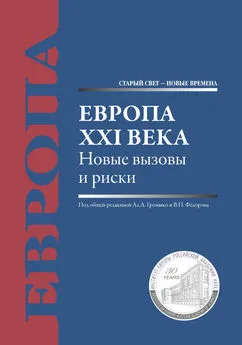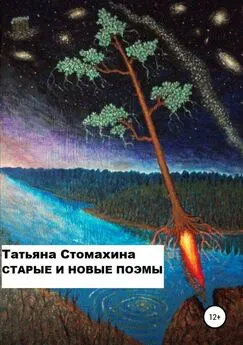Татьяна Панова - Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века
- Название:Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005046000
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Панова - Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века краткое содержание
Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все эти составляющие русской литературы и культуры ХХ века могут быть представлены не только как линейно и нелинейно (например, разветвленно) построенный литературный (и любой иной культурно-исторический) процесс [19], но и как архитектоника , в составе которой исторические этапы надстраиваются друг над другом в виде ступенчатой пирамиды и вступают друг с другом в различные отношения. При таком (« вертикальном ») видении истории русской культуры как архитектоники становится очевидно, что различные историко-культурные этапы (ступени) литературного, художественного и идеологического развития врастают друг в друга, то предвосхищая и высвечивая ближайшее будущее, то отбрасывая тень на недавнее прошлое. С этой точки зрения, несомненными представляются не только дискретность советского литературного и в целом культурного процесса, выраженная в этапах/ступенях культурно-исторического развития литературы, искусства, общественной мысли и тому подобного, но и его непрерывность , проявляющаяся в росте культурной рефлексии , накапливаемой и обобщаемой от одной ступени смыслового развития к другой, от второй – к третьей и так далее [20].
В этом смысле, при всей противоречивости и взаимоотталкивании этапов/ступеней советского, переход: от революционного этапа 1920-х годов к сталинской эпохе, от нее – к оттепели, от оттепели – к брежневскому застою и всему позднесоветскому этапу, а от него – к перестройке – характеризуется каждый раз ростом и укреплением культурной рефлексии , в том числе критическим пониманием сущности советского (в единстве положительного и отрицательного значений), от одного этапа к другому постоянно корректируемым и подсознательно обобщаемым. При этом рефлексия советского не только протягивает далекие связи между этапами / ступенями советской архитектоники, тем самым как бы сшивая противоречивые фрагменты советской культуры в единое целое, но и постоянно трансформируется и деконструируется, приобретая формы то монтажа, то игры, то постутопии, то насилия, то гротеска, то платоновской «хоры», то видеоклипа, то диджитал-сторителлинга [21].
Эта дискретная культурная рефлексия советского аккумулировалась, в основном, в различных медиа – печатных и электронных, вербальных, визуальных и аудиальных. Причем критическая рефлексивность, по мере ее концентрации и роста, все в большей степени находила свое выражение в невербальных (то есть визуальных и аудиальных) формах, более многозначных в интерпретации и менее подвластных политическому цензурированию. Связывают воедино эту фрагментированную картину мира в конечном счете именно медиа, в том числе особенно эффективно – новые медиа, способные объединять разнородные тексты и контексты, идеи и образы, ассоциации и иллюзии. Современная полиэкранная медийная среда неслучайно характеризуется в терминах: «повседневное многомирие», «культурно-регламентационная коммуникация», «цифровой иллюзионизм», «культура неотрецензированного большинства», «гибридные видеоформы» и тому подобное [22].
К концу советской истории противоречивое обобщение медийных представлений о советском достигло наибольшей зрелости, что и подготовило постсоветский период, для которого характерно переживание советского как прошлого и внеположного, уже отделенного от современности и воспринимающегося представителями текущей русской культуры извне, в той или иной мере отчужденно. Опосредованность восприятия советского различными медиа подчеркивает сегодня его отдаленность и невозвратимость.
Поворот позднесоветской и постсоветской культуры к медиальности претерпел несколько характерных этапов. Исторический контекст культуры быстро менялся и находил свое отражение в каждом тексте культуры. При этом вместе с выдвижением на первый ряд общественных интересов той или иной разновидности массмедиа трансформировался сам характер медиальности. Соглашаясь с тем, что каждое произведение культуры является, по У. Эко, открытым своему контексту [23], мы видим, как массмедийный (точнее – мультимедийный) контекст по-своему вторгается в каждое произведение культуры и накладывает свою специфику на содержание и форму этого произведения (относится ли оно к политике или философии, публицистике или литературе, театру, кино, музыке и тому подобному) [24]. В результате новости оборачиваются манипуляцией, научное открытие – сенсацией, произведения искусства – развлечением, информация – рекламой. Все феномены культуры, пропущенные через призму массмедиа, приобретают превращенный характер и меняют свой смысл и значение.
В конце 1980-х годов, на волне общественного подъема и гражданской активности периода перестройки в СССР, господствующим медийным контекстом была газетная и отчасти журнальная периодика [25]. Структурную доминанту тогдашней системе массовых коммуникаций задавали газеты (лидер – «Московские новости», редактировавшиеся Е. Яковлевым) и многотиражные журналы общего типа (лидер – «Огонек», который редактировал В. Коротич). Однако и литературно-общественные журналы того времени, публиковавшие прежде запрещенные, а ныне возвращенные литературные произведения писателей-диссидентов, эмигрантов или жертв сталинского террора, достигали тоже невиданных по массовости тиражей. Так, главный интеллигентский журнал оттепельного и застойного времени «Новый мир» (под редакцией С. Залыгина) в год первой публикации «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына (1990) достигал 4 миллионов экземпляров (непревзойденный рекорд! – для сравнения: сегодня тираж «Нового мира» не превышает 2 тысяч экземпляров).
В перестроечный период газетно-журнального «бума» все разновидности художественной, познавательной, популярной культуры подстраивались под тональность политически заостренной публицистики. Например, Т. Толстая регулярно писала высокохудожественные эссе в «Московские новости», С. Залыгин публиковал экологические статьи о «повороте рек», Ю. Карякин – эссе на темы «культа личности» и уроков Достоевского для ХХ века, В. Ерофеев отмечал «поминки по советской литературе», заводившие апологетов соцреализма и тому подобное. Даже Солженицын оторвался от трудов по созданию титанического «Красного колеса», чтобы поделиться с советским читателем своими соображениями о том, «как нам обустроить Россию» [26].
Театр времен перестройки был «заточен» на публицистику. Зрителям не надоедали бесконечные реинтерпретации «революционных этюдов» М. Шатрова и «производственных» пьес А. Гельмана. Именно эти произведения «публицистического театра» задавали общую планку театральным и кинематографическим исканиям конца 80-х – начала 90-х годов. Словесная публицистичность перекинулась и прямо в кино; особенно показательны здесь фильмы Э. Климова («Прощание с Матерой», «Иди и смотри») и Г. Панфилова («Прошу слова»). Разговорный публицистический жанр («ток-шоу») в это время доминировал и на телевидении (программы «Взгляд», «Пятое колесо», «До и после полуночи», «Тема», «Про это», первые телемосты).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: