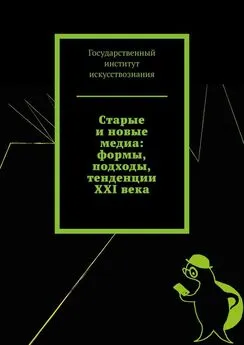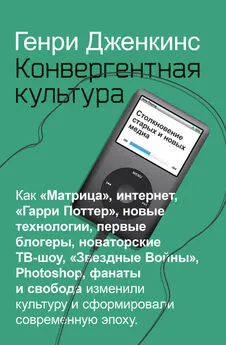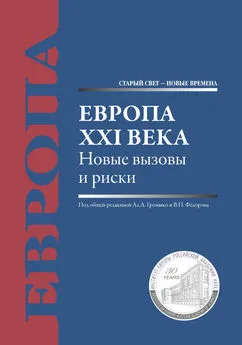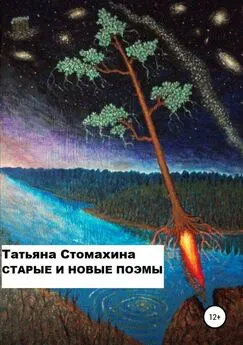Татьяна Панова - Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века
- Название:Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005046000
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Панова - Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века краткое содержание
Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Показательно, что больше половины работающих горожан смотрят телевизор по утрам, до ухода на работу, и вечером, после возвращения с работы домой; более половины опрошенных смотрят телевизор за ужином в будни и по выходным. Почти у трети опрошенных «Левада-центром» телевизор работает весь будний день и не выключается никогда. В выходные присутствие телевизора в жизни семьи в роли «постоянного члена семьи» еще больше (37%), а 46% опрошенных смотрят телевизор одновременно с другими домашними делами. Это означает, с одной стороны, плотную встроенность телевизора в бытовой обиход, а с другой, свидетельствует о несконцентрированности, «рассеянности» внимания зрителей [30]. По точной характеристике В. Беньямина, подобное восприятие информации происходит «не столько через внимание, сколько через привычку». «Публика оказывается экзаменатором, но рассеянным» [31].
Для большинства россиян «домашнее, семейное время» и «досуг» – это и есть телевизор, «телесмотрение». По характеристике Б. Дубина, общество в современной России – это по преимуществу общество смотрящих телевизор и символически обменивающихся репликами о просмотренном. Решающим в выборе, что смотреть, у большинства телезрителей оказываются не советы друзей или близких, не программы телепередач, а анонсы будущих передач самого телеканала по ходу показа. Это создает в России репутацию телевидения как «зомбоящика», гипнотизирующего и зомбирующего, программирующего телеаудиторию – от имени телеканала, а в современных условиях – и от имени самой власти.
По данным «Левада-центра», выдвижение на первый план в современной российской культуре телевидения и телесмотрения, выполняющей ведущую, безальтернативную и монопольную роль, связано с отсутствием в постсоветской России политических, экономических и культурных элит и, далее, с продолжающимся разложением и деградацией творческой, в том числе гуманитарной, интеллигенцией, фактически вытесненной чиновниками средней руки. За картиной монопольного положения российского телевидения на самом деле стоит скрытая от стороннего наблюдателя борьба различных социальных сил и уровней власти за контроль над телеэкраном и влияние на телеаудиторию.
Оборотной стороной этой телевизионной монополии является фактическая отчужденность телеаудитории от происходящего в реальности, выражение исключительно зрительского, то есть созерцательного и пассивного участия в социальной действительности. Телевидение создало свой собственный, «параллельный», симулятивный мир, в котором дублируются зачаточные, слабо развитые формы организации социальной жизни либо компенсируется отсутствие институтов гражданского общества.
В этом смысле российское телевидение выполняет во многом компенсаторную и отвлекающую функцию, порождая иллюзию причастности событиям окружающей жизни у массового телезрителя. Другой функцией российского телевидения является апелляция к прошлому, ностальгия по невозвратимому и недостижимому, направленная на формирование у зрителя консервативных и рутинных стереотипов восприятия и поведения. Наконец, еще одна функция российского телевидения – препарировать информацию о реальности в расчете на «человека как все» и его интерес ко всему сенсационному, скандальному, выбивающемуся из любых нормативов и правил, что определяет соответствующий выбор тележанров (боевик, фантастика, историко-патриотический фильм). В результате в России было создано «общество зрителей», целиком подвластное государственному телевидению [32; 33].
Постсоветская культура: поворот к медиацентризму и трансмедиальности
Постсоветская культура – в силу своего исторического положения – представляет собой определенный итог предшествующего развития русской и российской культуры ХХ века, в котором содержится, с одной стороны, продолжение, обобщение и синтез недавнего и отдаленного прошлого русской и российской культуры, а с другой стороны, «снятие», преодоление и отрицание прежнего культурно-исторического опыта. В некотором смысле постсоветская культура выступает как своего рода вершина в культурно-историческом развитии России ХХ века, венчающая собой целый ряд этапов (а точнее – ступеней) культуры, не только следующих один за другим, но и надстраивающихся друг над другом, наподобие пирамиды – значений и смыслов.
В то же время постсоветская культура, завершая собой развитие предшествующей культуры и, прежде всего, культуры советской, являет собой начало нового, во всех отношениях после -советского и сверх -советского периода культурно-исторического развития. Этот период, как это явствует из самого его названия, довольно двусмысленного, а потому неопределенного, противоречиво соединяет в себе еще-советское и уже-несоветское , то есть воплощает в себе само становление новой российской культуры, находящейся фактически по ту сторону советского и осуществляющей всеми своими практиками – художественными и нехудожественными (философскими, научными, политическими, повседневными и тому подобными) – идейно-творческий и утилитарно-практический расчет с советизмом во всех его разнообразных социокультурных проявлениях.
Однако постсоветская культура не отделена пропастью от культуры советской [34]. Как и в случае, например, со ступенями советской литературной архитектоники, в отношениях между советской литературой и постсоветской можно усмотреть и дискретность (советская и постсоветская литературы принадлежат разным культурно-историческим парадигмам), и своего рода непрерывность (постсоветское вырастает из советского и ощущается как его продолжение и развитие, а не только как явление, пришедшее после советского или вместо советского) [35]. Продолжая и развивая советскую культуру, постсоветская культура деидеологизирует последнюю и тем самым осваивает ее не только как свою идейную и содержательную противоположность, но и как свою составную часть, и как свой материал для дальнейшего развития и рефлексии (в том числе для переосмысления и переоценки, для стилизации, пародии, деконструкции и тому подобного).
То же происходит и с культурой русского зарубежья, с которой «снимается» ее идеологическое звучание – как культуры несоветской или антисоветской: например, эмигрантская литература осваивается как постсоветская и действительно становится одной из составных частей постсоветской литературы и культуры в целом. Музыка или изобразительное искусство русского зарубежья еще легче (по сравнению с литературой, более идеологизированной) включаются в постсоветское смысловое пространство. В результате разные ступени архитектоники русской культуры ХХ века оказываются не иерархизированными, а рядоположенными: досоветское, советское, русско-зарубежное, постсоветское встроены в единый смысловой контекст как взаимодополнительные (а не противоборствующие) части целого. То же происходит и со ступенями советской архитектоники, которые рассматриваются (извне этой конструкции) не только как очевидная последовательность этапов исторического развития, но и как условная одновременность составных частей русской культуры ХХ века.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: