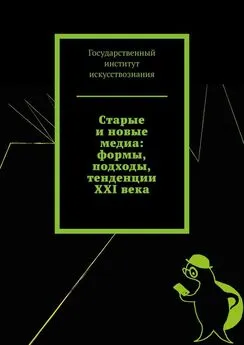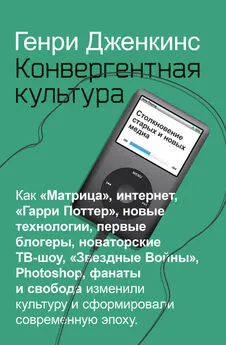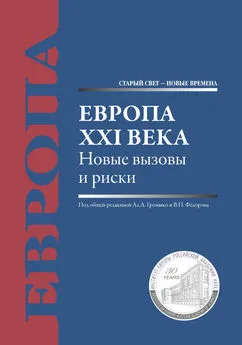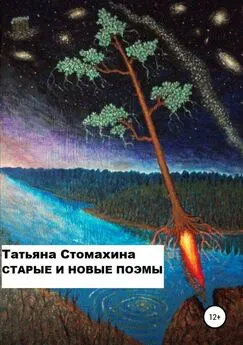Татьяна Панова - Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века
- Название:Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005046000
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Панова - Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века краткое содержание
Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В-третьих, с исчезновением глубины, метафоричности и многомерности/многозначности текста утрачивается отличие текстов художественных от нехудожественных, то есть теряется эстетическое измерение текста, а вместе с тем и нравственное, и интеллектуальное его наполнение.
В-четвертых, усиливаются визуальные ассоциации , исходящие из вербального текста, независимо от иносказательных, идеологических, философских или символических смыслов, как правило, вкладывавшихся в них. Что же касается собственно интеллектуально-философских текстов, то их понимание, с точки «зрительского чтения», вообще невозможно, поскольку их проблематика предметно не вообразима и не имеет визуальных коннотаций и эквивалентов в окружающей повседневности.
Зритель вербального текста, дающий его вольную трактовку, поданную через призму своего визуального опыта, на самом деле подменяет авторский текст – собственным , притом принципиально отличным от исходного своей визуальностью (а это ви́дение вряд ли можно считать чтением, скорее это – визуальная реинтерпретация «просмотренного»). В этом случае читательская коррекция «зрительского» опыта прочтения необходима и неизбежна.
Не менее своеобразно реализуется стратегия « зрителя как читателя ». В зрительское восприятие субъекта современной культуры имплицитно вложен экфрасис (вербальная репрезентация визуального), который реализуется как функция читателя, заключенного в подтексте зрителя. Ви́дение некоего визуального ряда не только может, но и, в идеале, должно быть дополнено чтением как бы стоящего «за ним» (в глубине), подразумеваемого вербального текста. «Прочтение» визуального текста предполагает не только и не столько его « просмотр », но и осмысление . И в этом признании заключена не только метафора, но и констатация возможной или необходимой вербализации визуального содержания как способа более глубокого проникновения в его смысл. Подобная вербализация содержания произведений изобразительного искусства почти всегда сопровождает процесс чисто визуального созерцания живописи (часто начиная со словесного названия картины), хотя не всегда акцентируется зрителем. Исключение составляют произведения беспредметного искусства, принципиально рассчитанные на «прочтение» на ином, невербальном языке [40; 41].
Двухуровневое восприятие визуального текста имеет особое значение в кино. Массовые жанры (детективы, боевики, мелодрама, фильмы ужасов и тому подобное) могут вполне обойтись чисто «зрительским» подходом, отслеживающим событийную фабулу, развитие и разрешение конфликтов, борьбу характеров и обстоятельств, разгадывание какой-то тайны и тому подобное. Никакой «глубины» визуального текста за подобным «событийным потоком» не стоит. Подобные массовые жанры словесной беллетристики также не знают глубины текста и отлично схватываются «зрительским» чтением. Однако как только мы сталкиваемся с интеллектуальным или поэтическим кинематографом, нам уже не избежать «читательского взгляда». Подобные фильмы должны быть не только увидены (зрителем), но и прочитаны (читателем). И только в результате такого внимательного «прочтения» вербального подтекста становятся очевидными философские, исторические, религиозные, нравственные и другие прозрения художников-мыслителей в кино.
Таким образом, диалогически соединенные в одном субъекте культуры зритель и читатель – совместными и нередко одновременными усилиями – организуют проникновение в глубину кинотекста (на поверхности – визуального, а в глубине – вербального). Аналогично работает и сам субъект медиакультуры: на поверхности быстрого восприятия он по преимуществу – зритель; в глубине, отягощенной неторопливым анализом и размышлением, он в основном – читатель; но в данном случае читатель и зритель – «сообщающиеся сосуды», взаимно корректирующие свои наблюдения и обобщения, тяготеющие к синтезу (а если это искусство – к синестезии).
Реципиент медиакультуры, как в первую очередь зритель, одним зрительским восприятием не может пробиться за поверхность экрана, в «непроницаемые глубины» так называемого субмедиального пространства (Б. Гройс), представляющего собой скрытый, невидимый зрителю анклав знаковых носителей. Здесь ему может помочь лишь читательский субъективный опыт, наполняющий это пространство, по его воле, различными догадками, подозрениями, опасениями, прозрениями и открытиями, выраженными словесно и, в той или иной мере, литературно [42]. В этом отношении « начитанность » зрителя/читателя, его литературная эрудиция, развитое читательское воображение являются незаменимым источником интерпретативных «подсказок», позволяющих «освоить» субмедиальное пространство, заполнив его гипотетическими версиями, мотивами, символическими значениями, некоторые из которых имеют шанс в дальнейшем подтвердиться на практике, уже за пределами медиатекста. Таким образом, «читательское зрение» выступает как мысленное продолжение «зрительского ви́дения» и становится своеобразным средством творческого расширения медиареальности.
Еще одним важным резервом медийного расширения человека является двухслойная соотнесенность визуального и звукового (музыкального) ряда. Эти отношения Эйзенштейн называл «звукозрительным феноменом» и «звукозрительным монтажом», природу которых он связывал с умением сочетать «культуру слуха» с «культурой глаза», с «нахождением средств соизмеримости изображения и звука» [43]. Таким образом в «заэкранном пространстве была обнаружена еще одна двусоставная характеристика субъекта медиакультуры – « звукозритель », сопоставимая со «зричителем». Этот феномен получил недавно и другое, тоже правомерное название – « зритеслушатель » [44]. В этой структурной единице медиакультуры «зрительский слух» взаимодействует со «слушательским зрением», которые являются такими же взаимодополнительными компонентами интермедиального восприятия кино, театра, телевидения, видеоарта, сетевого искусства, как и «читательское зрение» и «зрительское чтение».
Все это означает, что виртуальная реальность, скрытая от нас под медиальной поверхностью экрана и нередко ассоциирующаяся с «темным субмедиальным» пространством, обладает сложной феноменальной структурой, требующей более глубокого изучения – как в отношении старых, так и новых медиа [45; 46]. На смену медиализации культуры грядет ее виртуализация , а виртуальная реальность тесно смыкается с воображаемым [47], что значительно усложняет наши недавние представления о реальности, культуре, искусстве и человеке, об интенциональности, ментальности и познаваемости мира.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: