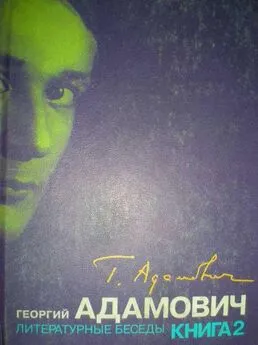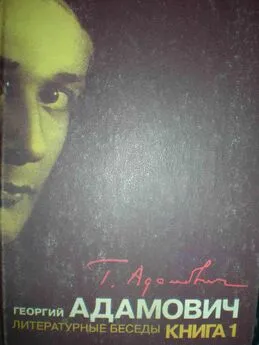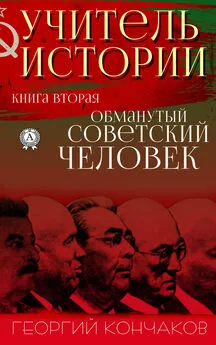Георгий Адамович - Литературные беседы. Книга вторая (Звено: 1926-1928)
- Название:Литературные беседы. Книга вторая (Звено: 1926-1928)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:1998
- Город:СПб.
- ISBN:5-89329-104-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Адамович - Литературные беседы. Книга вторая (Звено: 1926-1928) краткое содержание
В двухтомнике впервые собраны все ранние работ известного эмигрантского поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892-1972), публиковавшиеся в парижском журнале «Звено» с 1923 по 1928 год под рубрикой «Литературные беседы».
Этот особый, неповторимый жанр блистательной критической прозы Адамовича составил целую эпоху в истории литературы русского зарубежья и сразу же задал ей тон, создал атмосферу для ее существования. Собранные вместе, «Литературные беседы» дают широкую панораму как русской литературы по обе стороны баррикад, так и иностранных литератур в отражении тонкого, глубокого и непредвзятого критика.
Книга снабжена вступительной статьей, обстоятельными комментариями, именным указателем и приложениями.
Для самого широкого круга читателей.
Литературные беседы. Книга вторая (Звено: 1926-1928) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О новейшей русской беллетристике
Иногда впадаешь в отчаяние, собираясь писать о новейшей русской беллетристике: как показать, доказать, как убедить, что она действительно очень плоха, что никакой предвзятости по отношению к ней нет… Эта беллетристика нелепа в своем желании быть во что бы то ни стало «новой», а разве ново то, к чему она пришла: пышная, вернее пухлая, образность, полуритмическое построение прозы, скрытое стремление превратиться в плохие недоделанные стихи.
Ведь и раньше порой писали плохо: Марлинский, Загоскин, Бенедиктов <12>, столь похожие на некоторых наших современников <13>! Но раньше, кажется мне, не было еще в воздухе той стилистической эпидемии, которая явно свирепствует в современной России и заставляет Бабеля писать, как пишет Леонов, Сейфуллину, как Бабель, или как Замятин, или как Серапионы, с различиями, видными только в микроскоп.
…Но останемся честны сами с собой, когда нас никто не подслушивает: очень плохо пишут наши молодые писатели, льстиво, заискивающе, всегда будто с похмелья или в жару.
NB! «Льстиво» — и «в жару», «заискивающе» — и «с похмелья». И все в одну строчку, из «льстиво» и «заискивающе» выводя похмелье и жар.
О романе Леонова «Барсуки»
…Можно пожалуй добавить, что роман этот не скучен… ( и, в конце столбца) … Нет в его книге, кажется, ни одной страницы, которую читаешь не то что с удовольствием — где уж тут до удовольствия! — а хотя бы с удовлетворением (хорошо — «хотя бы!») , как после вещей трудных, громоздких, но внутренне-оправданных. (Стало быть, удовлетворения нет!) Нет, читаешь как наказание. Прочтя же чувствуешь, что прочесть все-таки стоило, что вещь не пустая и не плоская. (Стало быть, удовлетворение — есть? Думаю, по всему вышесказанному, что имя этому удовлетворению — конец) . Только тесто в ней совсем еще сырое и, несмотря на сырость, уже скисшее.
«Совсем еще сырое » (т. е. недопекшееся) «и несмотря на сырость (недопеченность) уже скисшее». Скисает тесто до того, как его пекут (закваска, дрожжи) . Больше скажу: не скисши не станет хлебом. Разве что — библейские опресноки, православные просфоры и католические облатки. Не о них же говорит автор?
О Гоголе
Это решительно возвышает их (Пушкина и Толстого) над Достоевским, Тютчевым, даже над Гоголем, у которого есть что-то «небожественное» в его искусстве и который поэтому так ужасно иногда фальшивит. Разве Толстой написал бы Тараса Бульбу?
…Он (Толстой) честен той высшей честностью, без которой самые исключительные, даже гоголевские силы создают в искусстве только прах.
О Марциале, Пушкине и Ходасевиче
Этот старый пройдоха (Марциал) ничуть не поэт, конечно, но стилистически какое волшебство — его эпиграммы, по сравнению с которыми даже Пушкин кажется писавшим «темно и вяло». Не знаю, учился ли Ходасевич у римлян. Похоже, что да.
…Стихи Ходасевича — в плоскости «что» далеки от Пушкина настолько, насколько вообще это для русского поэта возможно. Прежде всего, Пушкин смотрит вокруг себя, Ходасевич — всегда внутрь себя.
О Есенине
Кессель не знает ничего более простого, более волнующего и чистого, чем некоторые стихи Есенина. Мне жаль его.
Еще о Есенине
Но ничего русской поэзии Есенин не дал. Нельзя же считать вкладом в нее «Исповедь хулигана» или смехотворного «Пугачева»… Безотносительно же это до крайности скудная поэзия, жалкая и беспомощная.
Victoria Regia
(О лженародном искусстве.)
«Гой еси», «за лугами за зелеными» было, может быть, очень хорошо у Толстого, но вообще-то это совершенно невыносимо после романов в «Историческом Вестнике», после бояр К. Маковского и Самокиш-Судковской, после всей трескучей фальши подложно-народного искусства (кстати сказать и сейчас еще процветающего: Цветаева, например, посвящает свою сказку Пастернаку в благодарность «за игру за твою за нежную»).
Во-первых:
«За игру за твою великую,
За утехи твои за нежные»
Во-вторых:
Эти строки не мои, а взяты мною из былины «Садко и Морской царь»: благодарность Морского царя — Садку. (См. любую хрестоматию.)
Сличить с первой строкой
«В живом стихотворении первоначальная хаотическая музыка всегда прояснена до беллетристики» Г.Адамович.
Чей стих – не знаю.
Защита Адамовичем улитки – в данном случае – явная самозащита.
Всякая вода, кроме сельтерской, льется одинаково.
Так Фета никто и не зовет.
Словом, «fait du Tolstoi sons le savoir».
«В один присест», «коробящие», «неприемлемые», «разухабисто», «лубочно», – все это приметы небрежности, но никак не мертвости стиля. («Стилистически-мертво» – либо штамповано, либо замучено).
«Народным», в кавычках, то есть: лже-народным. Какое же тут должное и перед чем тут преклоняться?
Опять кавычки!
См. первый цветок «Цветника».
Бенедиктов не прозаик, а поэт.
Кого, например?
М. Ц. <1926>
Константин Мочульский
ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЕСЕДЫ
<���ПОЛЬ ВАЛЕРИ. –
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ>
Небольшая статья Поля Валери «Кризис духа», недавно перепечатанная в сборнике «Variete» – быть может, самое значительное и блестящее из всего, что было написано о духовном кризисе европейской культуры.
Знаменитый автор «Эпалиноса», исследуя страшную болезнь нашей современности, ставит изумительный в своей беспощадной точности диагноз. На наших глазах произошла гибель целой культуры: мы по личному опыту знаем теперь, что цивилизации не бессмертны. Элам, Ниневия, Вавилон — от этих великих царств остались только имена; но скоро, может быть, и Франция, Англия, Россия станут тоже только именами. Почему же старая европейская культура оказалась такой неустойчивой, такой хрупкой?
Валери утверждает, что Европа накануне войны находилась в состоянии духовной анархии. Самые разнородные идеи, самые противоречивые принципы уживались мирно. «Модернизм» — это ярмарка мыслей, мировоззрений, вкусов; это – карнавал пестрых чувств и убеждений. Ни Рим эпохи Траяна, ни Александрия Птолемеев не доходили до такого смешения языков.
В любой книге начала двадцатого века вы отыщете: влияние русского балета, отголоски стиля Паскаля, импрессионизм Гонкуров, кое-что от Ницше и Рембо, слог научных исследований и неуловимый аромат британской словесности. Европейский Гамлет размышляет на кладбище – вокруг него столько великих могил: Леонардо, Лейбниц, Кант… Почему могучие усилия, гениальные мысли и добродетели привели нас к разрушению?
И Валерии задает вопрос: сможет ли Европа сохранить свою духовную гегемонию или же она превратится в то, что она и есть фактически : маленький мыс азиатского материка? Ведь преобладание ее есть чудо: Европа менее населена, менее богата золотом, менее плодородна, чем, например, Индия. Ее владычество основано на духе – на сочетании воображения и логического мышления, скептицизма и веры; Греция создала геометрию: до сих пор еще мы оспариваем возможность этой безумной выдумки . Но из нее вышла наука – вся европейская наука.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: