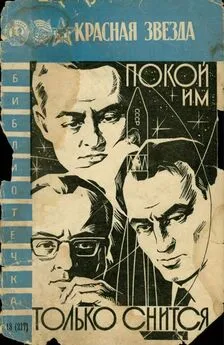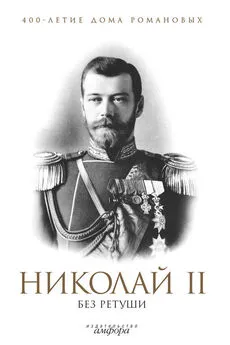Николай Мельников - Классик без ретуши
- Название:Классик без ретуши
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-089-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Мельников - Классик без ретуши краткое содержание
В книге впервые в таком объеме собраны критические отзывы о творчестве В.В. Набокова (1899–1977), объективно представляющие особенности эстетической рецепции творчества писателя на всем протяжении его жизненного пути: сначала в литературных кругах русского зарубежья, затем — в западном литературном мире.
Именно этими отзывами (как положительными, так и ядовито-негативными) сопровождали первые публикации произведений Набокова его современники, критики и писатели. Среди них — такие яркие литературные фигуры, как Г. Адамович, Ю. Айхенвальд, П. Бицилли, В. Вейдле, М. Осоргин, Г. Струве, В. Ходасевич, П. Акройд, Дж. Апдайк, Э. Бёрджесс, С. Лем, Дж.К. Оутс, А. Роб-Грийе, Ж.-П. Сартр, Э. Уилсон и др.
Уникальность собранного фактического материала (зачастую малодоступного даже для специалистов) превращает сборник статей и рецензий (а также эссе, пародий, фрагментов писем) в необходимейшее пособие для более глубокого постижения набоковского феномена, в своеобразную хрестоматию, представляющую историю мировой критики на протяжении полувека, показывающую литературные нравы, эстетические пристрастия и вкусы целой эпохи.
Классик без ретуши - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Горн — умный, но злой и до мозга костей циничный человек. Он — истинный дух синематографа, экранный бес, превращающий на экране мир Божий в пародию и карикатуру. То, что делает он сознательно, другие делают по создавшейся рутине. Но Дорианна Каренина, «деятельница» синематографа, и Магда, его порождение, вместе с Горном заносят в жизнь Кречмара не только синематографические дела, но и стиль, и дух синематографического бытия. Замечательно: жизненная драма Кречмаровой жены и дочери развертывается в обычном человеческом стиле. Между тем то, что происходит с самим Кречмаром, постепенно приобретает истинно горновский характер издевательства над человеческой личностью. Трагедия Кречмара в том, что это уже пародия на трагедию, носящая все специфические признаки синематографической драмы. Вот этого-то Кречмар не понимает — и не что иное, как именно это непонимание, и символизировано слепотой, поражающей Кречмара. Первоначальный «налет гнусности», занесенный Магдою в квартиру Кречмара, — ничто в сравнении с той издевательской гнусностью, в которую превращается вся его жизнь, когда она становится стилизована под синематограф.
«Синематографизированный» роман Сирина по существу очень серьезен. В нем затронута тема, ставшая для всех нас роковой: тема о страшной опасности, нависшей над всей нашей культурой, искажаемой и ослепляемой силами, среди которых синематограф, конечно, далеко не самая сильная, но, быть может, самая характерная и выразительная. Если в романе смерть героя кажется несколько поспешным и слишком внешне эффектным завершением фабулы (что, впрочем, отчасти и соответствует «синематографическому» ее развитию), то со стороны затронутых тем эта смерть представляется как нельзя более логичной. Вновь и вновь дело идет о смерти, грозящей всей нашей культуре.
В заключение скажу лишь несколько слов об очаровательном, порой как бы даже пресыщающем мастерстве, с которым роман написан. Свою изобретательность Сирин на этот раз доводит до дерзости, можно сказать, равной той, с которою Горн издевается над Кречмаром. Приходится удивляться, с какой безошибочной точностью Сирин пользуется самыми острыми и рискованными приемами. Я бы даже решился сказать, что именно точность и безошибочность работы на сей раз доведены Сириным почти до излишества. Может быть, было бы лучше, если бы хоть что-нибудь было в этом романе написано немножко «спустя рукава». Но, разумеется, если об авторе говорят, что он пишет «слишком хорошо», то это еще не большой упрек.
Возрождение. 1934. 3 мая. № 3256. С. 3–4
Ю. Терапиано {50}
Рец.: Камера обскура. Париж: Современные записки; Берлин: Парабола, 1933
Проза В. Сирина вызвала за последние годы много разговоров. Одни — на наш взгляд, преувеличенно — провозглашали Сирина самым замечательным писателем новейшего времени; другие, его противники, были к нему порой просто несправедливы. Во всяком случае, прошло достаточно времени, Сирин как писатель вполне определился, и пишущий о его новой книге — в данном случае о романе «Камера обскура», печатавшемся в «Современных записках» и ныне вышедшем отдельным изданием, вправе судить о молодом писателе, не прибегая к обычным «ожиданьям».
Новая книга В. Сирина, особенно последняя ее часть, дает возможность лишний раз полюбоваться свойственным ему даром внешнего выражения. Язык точен, сух, энергичен, порой блестяще резок. Чтение некоторых страниц «Камеры обскуры» доставляет как бы физическое удовольствие — движение на чистом воздухе. Хорошо? — Очень хорошо! Блестящая это литература? — Блестящая! И все-таки, как после движения на чистом воздухе, приятное ощущение только на поверхности; даже досадно, зачем все это так хорошо. Блестяще — но «о понятном», слишком о понятном — о человеке, о жизни, извне созерцаемых.
Чувство внутреннего измерения, внутренний план человека и мира лежат вне восприятия Сирина. Энергия его все время бьет мимо цели, замечательная способность — тратится лишь на то, чтобы с каким-то упоеньем силой изобразительного дара производить лишь поверхностные, и потому произвольные, комбинации. Внутренней необходимости (у Достоевского, например, мы заранее чувствуем, что Раскольников в такой-то момент должен неминуемо встретить на мосту Свидригайлова) — чувства, «соединительных швов жизни» Сирин совершенно лишен. Не мне только будет принадлежать это наблюдение, когда я скажу, что действующие лица «Камеры обскуры» без нарушения внутреннего строя повествования могут быть как угодно перетасованы: Кречмара можно без ущерба возвратить жене, девочка их может и не умереть. Горн может жениться на Магде и т. д.
Автомобильная катастрофа и связанные с нею для героев «Камеры обскуры» последствия, столь блестяще изложенные, не обусловлены ничем другим, кроме прихоти автора. В любую сторону — повесть внутренне безответственна. Могут возразить: но ведь это и есть камера-обскура. Однако и в «Подвиге» конец романа — поездка героя в советскую Россию — так же безответствен.
Резко обостренное «трехмерное» зрение Сирина раздражающе скользит мимо существа человека. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, вспомнив мелкие рассказы того же автора, печатавшиеся в «Последних новостях», что склонность к сомнительному германскому открытию — психоанализу — основной грех Сирина. В его «одержимости памятью» (о чем недавно писал один из наших критиков) больше от выдумки, чем от духовного видения. То, что по ту сторону памяти внутренний, подлинный человек таким приемом познан быть не может. Герои «Камеры обскуры», пока мы не хотим сопротивляться иллюзии, представляются нам живыми людьми. Но принуждающей силы волшебство художника не имеет. Это лишь волшебство, увлекательное, блестящее, но не магия. Захочешь — и пусто становится от внутренней опустошенности — нет, не героев, самого автора. И то, что отсутствие человека выражается с таким блеском, еще усиливает ощущение разочарования: чувствуешь то, что Сирин при его большом формальном даровании мог бы дать, если бы… но это «если бы» с каждой его новой повестью делается все более и более проблематическим.
Числа. 1934. № 10 (июнь). С. 287–288
ОТЧАЯНИЕ
Впервые: Современные записки. 1934. № 54—56
Отдельное издание: Берлин: Петрополис, 1936
Фрагменты романа печатались в газете «Последние новости» (1932. 31 декабря; 1933. 8 октября; 5 ноября)
Работа над романом (поначалу имевшим название «Записки мистификатора») длилась с июня по ноябрь 1932 г. Толчком к написанию этого произведения, представляющего собой исповедь нераскаявшегося убийцы, послужило забавное событие из жизни писателя. В июле 1926 г. он принял участие в шутливом театрализованном суде над «Крейцеровой сонатой» Л.Н. Толстого: сыграл роль Позднышева, горячо оправдывавшего свое преступление. Помимо этого житейского эпизода и множества литературных источников (прежде всего произведений Ф.М. Достоевского, образующих своего рода «предтекст» «Отчаяния») на формирование замысла романа повлияли, как это ни странно звучит в рассказе о Набокове, факты уголовной хроники: воплощая в жизнь зловещий замысел «гениального беззакония», главный герой, мономан Герман Карлович, эпигонски повторял фабулу двух чудовищных по своей циничной жестокости преступлений (убийства мнимых двойников с целью получения страховки), которые одно за другим прогремели в Германии весной 1931 г. О них взахлеб писали немецкие газеты, в том числе и русскоязычные, например, в «Руле», где активно сотрудничал Набоков, 19 марта 1931 г. появилась статья с кричащим заголовком «Убийство в автомобиле», рассказывающая о преступлении некоего Курта Тецнера (о нем вскользь упоминается в десятой главе романа) [47].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: