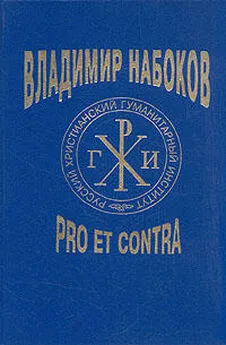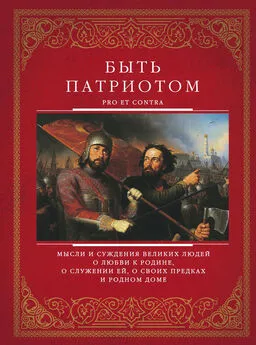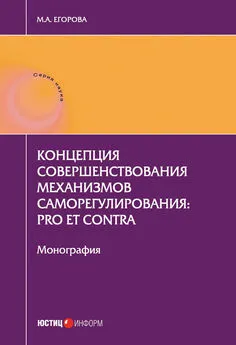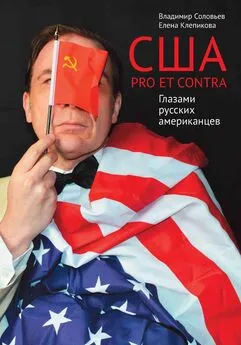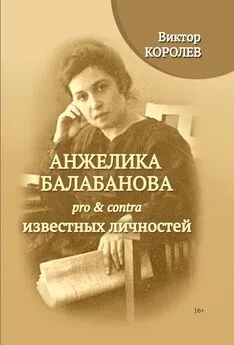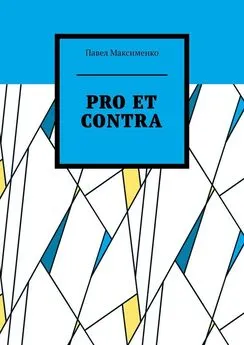Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra
- Название:Владимир Набоков: pro et contra
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский Христианский Гуманитарный Институт
- Год:1999
- ISBN:5-88812-058-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra краткое содержание
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Владимир Набоков: pro et contra - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впервые возникший у Набокова в 1923 году в прологе к одноименной драме традиционный романтический мотив претерпел с той поры известную эволюцию. Тогда агасферовская вечность была таинственной и счастливой одновременностью, блаженным переживанием себя во всех эпохах и во всех лицах [595], теперь эта вечность стала темной клеткой, символом рабской мысли, рабского воображения, которым не передумать, не перефантазировать мировую данность.
Пойти ли на поводу у надежды, которая воскрешает пропавшего путешественника и обещает сыну земную встречу с ним? Принять ли версию чудесного спасения, «угодливо» нарисованную сознанием? Годунов-Чердынцев не принял. Он отказался от земного утешения, поняв, что как бы принуждал погибшего к бессмертию. Это бессмертие не было подлинным бессмертием. Оно было заточением в круге земных представлений — вечностью Агасфера. Там, в мрачной вечности, вместо отца ему являлся жуткий призрак, вызывая «тошный страх», или навстречу выходил нищий старик лет семидесяти «в сказочных отрепьях», «обросший до глаз бородой».
Как вырваться? Найдет ли художник здесь, в конечной реальности, лазейку, «дырочку», тайный ход в другое измерение? Способно ли искусство проникнуть за пределы кажимости?
Драма плена и свободы бесконечно разыгрывается в набоковском мире — в каждом сюжете, в каждой судьбе. Все ее действующие лица похожи друг на друга. Соединены этой драмой и герои «Дара» — представители различных пластов русской культуры. Мостиком же между Чернышевским и его эпохой (условно — второй половиной девятнадцатого столетия) и новым временем становится сын его Саша. «Сотворенный словно из всего того, чего отец не выносил, Саша, едва выйдя из отрочества, пристрастился ко всему диковинному, сказочному, непонятному современникам, — зачитывался Гофманом и Эдгаром По, увлекался чистой математикой, а немного позже — один из первых в России — оценил французских „проклятых поэтов“» (265).
Так входит в роман декадентство, ранний символизм. Призрачный двойник-антипод Чернышевского, Андрей Белый как бы смещается с образа отца на образ сына и от последнего уже движется к «реальному» Андрею Белому — художнику и теоретику «вредоносной школы» — одному из персонажей литературной энциклопедии «Дара», где наряду с ним эту школу представляют Блок, Зинаида Гиппиус, Георгий Чулков, Бальмонт и другие [596].
Так тема проникновения в запредельное вступает в наиболее органичную для нее среду — культуру декадентства и затем символизма.
«Не сомневаюсь, что даже тогда, в пору той уродливой и вредоносной школы (которой вряд ли бы я прельстился вообще, будь я поэтом чистой воды, не подпадающим никогда соблазну гармонической прозы), я все-таки знал вдохновение. Волнение, которое меня охватывало, быстро окутывало ледяным плащом, сжимало мне суставы и дергало за пальцы, лунатическое блуждание мысли, неизвестно как находившей среди тысячи дверей дверь в шумный по-ночному сад, вздувание и сокращение души, то достигавшей размеров звездного неба, то уменьшавшейся до капельки ртути, какое-то раскрывание каких-то внутренних объятий, классический трепет, бормотание, слезы, — все это было настоящее. Но в эту минуту, в торопливой, неумелой попытке волнение разрешить, я хватался за первые попавшиеся заезженные слова, за готовое их сцепление, так что, как только я приступал к тому, что мнилось мне творчеством, к тому, что должно было быть выражением, живой связью между моим божественным волнением и моим человеческим миром, все гасло на гибельном словесном сквозняке, а я продолжал вращать эпитеты, налаживать рифму, не замечая разрыва, унижения, измены, — как человек, рассказывающий свой сон (как всякий сон, бесконечно свободный и сложный, но сворачивающийся как кровь, по пробуждении), незаметно для себя и для слушателей округляет, подчищает, одевает его по моде ходячего бытия» (137).
В драме плена и свободы, в драме искусства, противостоящего земным оковам, голос «вредоносной школы» и ее теоретика Андрея Белого звучит громче, настойчивее прочих голосов. Набоков не может не слышать, не учитывать этого голоса. Искусство, говорит Белый, есть истинное знание — интуитивное, иррациональное. Оно выше науки, послушно следующей законам «видимости». Оно выше самой «видимости», мира акциденций. Художник выходит из него, его «я» преодолевает свою ограниченность, дорастая до подлинного «я» в «бездне надзвездной». Он созидает новую реальность и себя самого в новой реальности. «Что-то в нас творит свои сны и потом их преодолевает. То, что творится в снах, называем мы действительностями, деятельность (понятая как творчество) в мире данном воздвигает лестницу действительностей, и по этой лестнице мы идем…» [597]
Иррациональность искусства вырывает нас из темницы сознания, разрушает земную логику, узы причинности. Как магическое знание искусство есть покорение материальной данности, овладение Пространством и Временем. «Процесс именования пространственных и временных связей словами есть процесс заклинания. Заговаривая явление, я, в сущности, покоряю его… Творческое слово созидает мир» [598]. Художник творит «новое небо» и «новую землю».
С «жизнетворческой» программой Андрея Белого связана его идея о магической функции любого элемента художественной формы. «…Связь слов, формы грамматические и изобразительные в сущности заговоры» [599]. В русле потебнианской теории он рассматривает тропы — метонимию, синекдоху, метафору, их созидательные, символические возможности. Семантически насыщены звук, интонации, ритм.
В стиховедческих работах Белому было недостаточно показателей «эксперимента», цифровых констатации, которыми он сам же ограничивал будущую «точную» эстетику. Белый-стиховед стремился к интерпретациям, к «наведению прямых связей между смыслом и ритмом» [600]. Индивидуальная ритмическая фигура стиха являлась для него непосредственным выражением трансцендентного. Сложные графики, имеющие целью зафиксировать систему пропусков ударения, состоящие из «прямоугольных треугольников», «косых углов», «ромбов», «крыш» и т. д., в контексте «Символизма» воспринимались магическими рисунками, причудливыми формулами заклинаний.
Как известно, он исправлял свои стихи в соответствии с изобретенными фигурами. «Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испорчены», — пишет Ходасевич [601].
Идея божественной семантики ритма абсолютизировалась. Белый «действительно старался в каждом стихотворении передать неповторимое трепетание в нем мирового духа, — забывая о том, что однозначное и индивидуальное — вещи разные и что все немгновенное есть обобщение, поддающееся многим реализациям» [602].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: