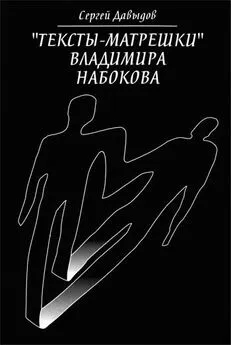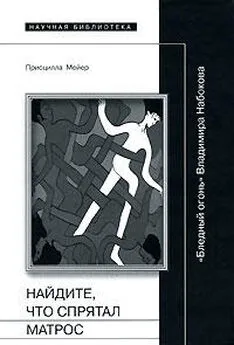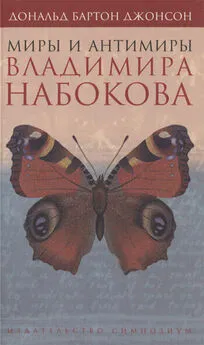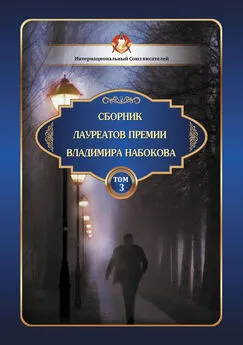Сергей Давыдов - «Тексты-матрёшки» Владимира Набокова
- Название:«Тексты-матрёшки» Владимира Набокова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кирцидели
- Год:2004
- Город:СПб
- ISBN:5-87399-120-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Давыдов - «Тексты-матрёшки» Владимира Набокова краткое содержание
Книга «„Тексты-матрешки“ Владимира Набокова» — первая монография о Набокове на русском языке. Впервые была издана в Мюнхене в 1982 году небольшим тиражом, и давно превратилась в библиографическую редкость. Вместе с тем, без ссылок на неё не обходится почти ни одно большое исследование, посвященное творчеству Набокова. Для настоящего издания книга существенно переработана.
«Тексты-матрёшки» Владимира Набокова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Колыхнулся розовый веер —
Гумилев не нравился ей.
— Я стихов не люблю. На что мне
Шкуры диких зверей? {66} 66 Числа. 1930. С. 9.
С этим стихотворением Ирины Одоевцевой связано название пьесы, на которую пошел, но которую так и не посмотрел Илья Борисович, — «Черная пантера». Исполнительницей главной роли в ней названа актриса из Риги Евгения Дмитриевна. В английской версии рассказа у актрисы появляется фамилия «Гарина». В ней анаграмматически соединяются инициалы «Г. А.» с именем «Ирина» (в рассказе им соответствуют редактор Галатов и Ирина). О том, что Набоков использовал это стихотворение, свидетельствует и описание афиши, которое он счел нужным вставить в английскую версию рассказа:
Любительский плакат изображал Гарину полулежащей на шкуре пантеры, застреленной ее любовником, который впоследствии должен был застрелить ее саму. {67} 67 Nabokov V. A Russian Beauty and Other Stories. P. 61 (перев. О. Сконечной).
Эта помещенная в рассказ пьеса, содержание которой мотивировано стихотворением Одоевцевой, является еще одной миниатюрной «куколкой» «текста-матрешки».
Набоков опутывает своего героя Илью Борисовича, а вслед за ним читателя, сетью анаграмматических знаков и намеков, масок и гримас, текстов и подтекстов, которые сводятся к общему знаменателю — «Числа». В этой каббалистике леопард И. Одоевцевой, подстреленный Гумилевым, перекликается с тигром Георгия Иванова, а с афиши им подмигивает черная пантера Набокова. На ее шкуре актриса Гарина анаграмматично «совокупляет» поэтессу Ирину Одоевцеву с критиком Г. Адамовичем. В рассказе с ними перекликаются героиня романа Ирина и редактор «Ариона» Галатов. Ирина и «Арион» составляют неполную анаграмму.
Между прочим, греческое предание об Арионе и стихотворение Пушкина на ту же тему также составляют контекст рассказа. Как сообщает Геродот, поэт Арион покинул родной Лесбос и странствовал со своей лирой по чужим землям. Однажды по пути в Коринф команда корабля, на котором плыл Арион, ограбила поэта и собиралась бросить его за борт. Поэт вымолил разрешение пропеть в последний раз, после чего сам бросился в воду. Он не утонул: на звук его лиры приплыл дельфин, на спине которого Арион счастливо причалил к берегам Коринфа. Здесь он дождался прихода судна, чтоб предать грабителей в руки закона. {68} 68 Herodotus, I, 23–24. Ср.: Rose H. J. A Handbook of Greek Mythology. N. Y., 1959. P. 300.
Стихотворение Пушкина «Арион» принято толковать как связанное с первой годовщиной казни декабристов:
Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн —
Певцам я пел… Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный…
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою. {69} 69 Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1948. Т. 3. С. 58.
Предание об Арионе и стихотворение Пушкина могут служить метафорическим выражением личных отношений Набокова с «русским Парнасом». Как известно, «Числа» замахивались на Пушкина {70} 70 Адамович: «Пушкин иссякал в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Наталией Николаевной тут повинны. Пушкина точил червь простоты» (Числа. 1930. № 1. С. 142); «Пушкину удалось еще спасти „грацию“ от уже закрадывавшейся в нее глупости» (Числа. 1930. № 2/3. С. 168); «Непонятно, когда это успели накурить перед ним столько благонамеренного фимиама, что за дымом ничего уже не видно. К фимиаму большинство и льнет: удобно, спокойно. „Поклонник Пушкина, но человек неглупый…“ — эту фразу написал я как-то само собой, не сразу заметив ее парадоксальность» (Числа. 1934. № 7/8. С. 159). Поплавский: «А все удачники жуликоваты, даже Пушкин. А вот Лермонтов, это другое дело. Пушкин — дитя Екатерининской эпохи, максимального совершенства он достиг в ироническом жанре „Евгений Онегин“. Для русской же души все серьезно, комического нет, нет неважного, все смеющиеся будут в аду» (Числа. 1930. № 2/3. С. 309–310); «Какой болтовней кажутся Чайльд-Гарольды, „Chartreuse de Parme“, „Разбойники“ Шиллера и всякие повести Белкина… Пушкин последний из великолепных мажорных и грязных людей Возрождения. Но даже самый большой из червей не есть ли самый большой червь?» (Числа. 1930–1931. № 4. С. 171).
и неоднократно пытались выбросить Набокова за борт русской литературы. Поэтому мне представляется неслучайным, что Набоков в своем рассказе иронически использовал название стихотворения Пушкина для парижского журнала «Арион», прототипом которого явились «Числа». Быть может, таким образом Набоков хотел передать своим собратьям по перу, которые нередко «ощущали как измену иных поэзий торжество» (Адамович), {71} 71 Строка из стихотворения «Стихам своим я знаю цену…».
собственное, сиринское послание: из «плавающих и путешествующих, недугующих и страждущих» на корабле русской литературы в изгнании погибнут все, кроме одного, «таинственного певца» с именем райской птицы — Сирина. В 1956 году, когда рассказ впервые появился в печати, по словам Набокова, «все, в ком можно было заподозрить отдаленное сходство с действующими лицами, благополучно и бесследно умерли», {72} 72 В действительности Г. Иванов умер в 1958 году, Г. Адамович — в 1972 году. Но в произведениях Набокова «смерть» следует толковать в переносном смысле — как творческую неудачу. В своем превосходстве над русскими «парнасцами» Набоков никогда не сомневался. См. по этому поводу следующие строки из его последнего романа: «Вторую половину тридцатых отметило в Париже чудотворное возвышение изгнаннических искусств, и с моей стороны было бы дурацкой претензией не признавать, что, какую бы чушь ни писал на мой счет кое-кто из самых бессовестных критиков, я оставался высшим достижением этого периода. В залах, где проходили чтения, в задних комнатах знаменитых кафе, на частных литературных вечерах я с удовольствием показывал моей спокойной и стильной спутнице призраков ада, проходимцев и проныр, величавых ничтожеств, участников всякого рода группок, тронутых гуру, благостных педерастов, пленительно истеричных лесбиянок, седовласых стариков-реалистов, одаренных, неграмотных критиков новой интуитивной школы (чьим незабвенным вождем был Адам Атропович)». (Набоков В. Смотри на арлекинов! // Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 5. С. 200 (перев. С. Ильина)). «Адам Атропович» — конечно, Г. Адамович.
в то время как сам он, написавший о себе в 1931 году:
…меня страшатся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою я взвесил
на пушкинских весах, и честь
осмеливаюсь предпочесть, {73} 73 «Неоконченный черновик» (V, 438).
—
Интервал:
Закладка: