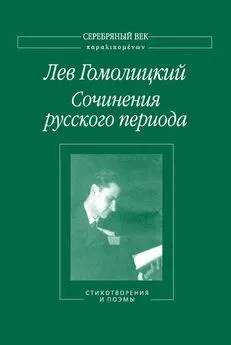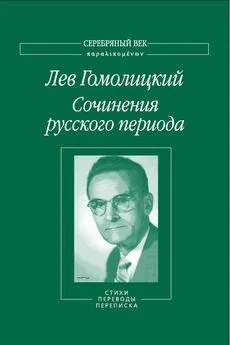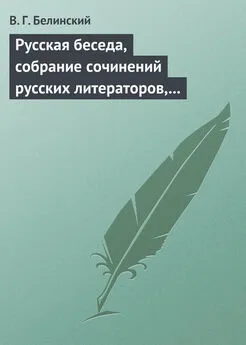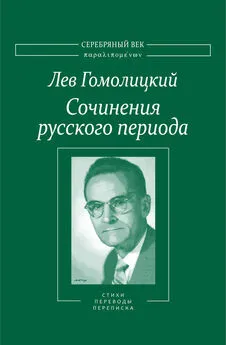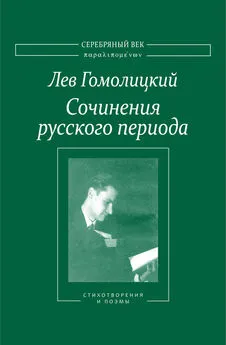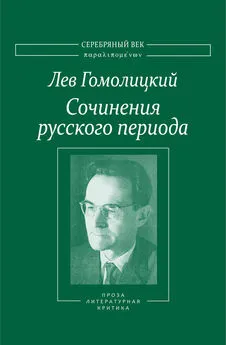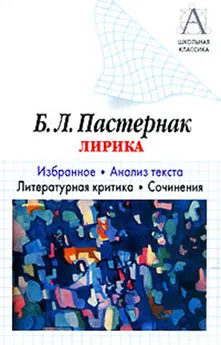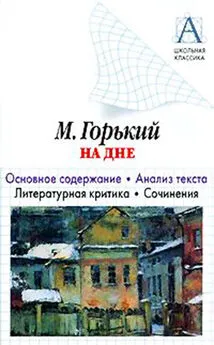Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3
- Название:Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978–5–91763–078–6 , 978–5–91763–081–6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3 краткое содержание
Межвоенный период творчества Льва Гомолицкого (1903–1988), в последние десятилетия жизни приобретшего известность в качестве польского писателя и литературоведа-русиста, оставался практически неизвестным. Данное издание, опирающееся на архивные материалы, обнаруженные в Польше, Чехии, России, США и Израиле, раскрывает прежде остававшуюся в тени грань облика писателя – большой свод его сочинений, созданных в 1920–30-е годы на Волыни и в Варшаве, когда он был русским поэтом и становился центральной фигурой эмигрантской литературной жизни.
Третий том содержит многочисленные газетные статьи и заметки поэта, его беллетристические опыты, в своей совокупности являвшиеся подступами к недошедшему до нас прозаическому роману, а также книгу «Арион. О новой зарубежной поэзии» (Париж, 1939), ставшую попыткой подведения итогов работы поэтического поколения Гомолицкого.
Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Начиная с 1931 года в Содружестве были прочитаны доклады: С. Березовский - о советской литературе, С. Киндякова - неоплатонизм в доктрине Юлиана Отступника и попытка замены им христианства, А. Луганов - о Достоевском, о Блоке, о Некрасове, Л.Н.Гомолицкий - о Блоке, о Гумилеве, о Кнуте, С. Нальянч - о Гумилеве, И.Чапский - о Розанове, Д.В. Философов - о Тургеневе, проф. В.Марцинковский - Достоевский и Евангелие, С.В. Барт - «Творческий темперамент Чехова», Д.В. Философов - «Государство, личность и Калибан» (о «Медном Всаднике»), он же - «Активизм и цыганщина», М.Г. Чапская - «Общий звзгляд на польскую эмиграцию после 1830 г.», она же - «Умственные течения в польской эмиграции после 1830 г.», А.М. Хирьяков - «Первый русский народник (П. Якушкин)», Р. Блют - «Духовный перелом Достоевского», В.С. Чихачев - о творчестве, Л.Н. Гомолицкий - «Русские писатели в СССР и в эмиграции», он же - о работе русских писателей в изгнании, Е.С. Вебер - о советской драматургии. Отдельные собрания были посвящены докладам на темы: «О втором и третьем поколении в эмиграции» - вступит. слово Д.В. Философов; «О борьбе мечем духовном» - вступит. слово Л.Н.Гомолицкий. Свои произведения на собраниях Содружества читали П. Прозоров, В.К. Михайлов, В.Ф. Клементьев, С.Барт, С.Нальянч, В.В. Бранд, Л.Н. Гомолицкий, А.С. Домбровский, Е. Быховская, С. Войцеховский, И. Гуловский, С. Концевич, С.Е. Киндякова, В.С.Байкин, Ян Щавий, кн. Лыщинский-Троекуров, И. Северянин, К.Д. Бальмонт, Вл. Слободник, Ю. Тувим, А.М. Хирьяков и др. На собраниях, посвященных разбору произведений содружников, прочли доклады: Л.Н.Гомолицкий - о стихах С.Барта, Е.С. Вебер - о повести В.К. Михайлова «Приезд Твердохлебова», Л.Н.Гомолицкий - о рассказе В.К. Клементьева «Отец Иоанн». Большинство докладов и произведений, прочитанных на собраниях Содружества, печаталось в газетах «За Свободу», «Молва» и журнале «Меч».
Новь . Сб. 8 (Таллинн, 1935), стр. 170-171. Подп.: Е.Н.
Несколько слов по поводу «Белладонны» Н. Гронского
«Белладонна» Н. Гронского неточно (впрочем, кажется, не им самим) названа поэма. Это не эпос, - лирика, и лирика торжественная, высокопарная. Тут слышится всё время напряженный, взволнованный голос поэта, настроенный на возвышенный лад. Такие произведения в старину назывались одами. Почему не называть вещи своими именами. «Белладонна» и есть возрождение лучших традиций оды.
В этом роде поэзии были, несомненно, элементы вечные. Одописцы екатерининского времени посейчас способны нас волновать: и автор подражания Иову и
Парящий, пламенный и нежный сей творец, –
Сумароков [391] Стихотворная подпись М.М. Хераскова к портрету Сумарокова на шмуцтитуле первого тома Полного собрания всех сочинений в стихах и прозе 1781 г.
и собеседник о Боге - Державин. Последний был той вершиной одической поэзии, с которой жизнь ее «глядит на обе половины». Мы не отдаем себе отчета, что влекущее нас в лучших поэтах последержавинской эпохи есть воспоминание о тех чистых образцах первоначальной лирики оды. В Пушкине прекрасно именно воспринятое им у Державина сочетание двух слогов - торжественного с низким; в Тютчеве обольстителен именно возврат к одическому строю и т.д. Реалистическому роду поэзии по мере того, как он отходил от высокого языка оды, суждено было выродиться, стать вялым и невыразительным, окончиться вдохновенною прозою в стихах. Это предчувствовал и сам родоначальник его - Державин. Обратившись еще внезапным последним порывом к чистейшей лирике, он бежал из суетной обстановки, оставив дом, свою нежную Плениру, обиды вельмож, заботы создававшейся с трудом карьеры - всё, в чем писалась Фелица - и там, где настигло его вдохновение, на случайном постоялом дворе, в состоянии близком религиозному озарению, в полном уединении создал свои непревзойденные строфы оды «Бог». Тут поэзия граничила с боговидением.
Видимо, простота, возводившаяся в идеал законодателями литературных вкусов прошлого столетия, и «современный», «живой» язык вовсе не обязательны для поэзии. Язык ее может быть «мертвым».
...И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба [392] Пушкин, «Воспоминание» (1828).
.
Может быть, такой именно язык ей даже нужен, чтобы с первых строк настроить читающего на лад необычный, возвышенный. Это чувствовали русские архаисты, но никто из них не применил свой опыт надлежащим образом, в надлежащих размерах. Впервые полным, вдохновенным голосом заговорил на языке оды Гронский в «Белладонне». Уже в критике выражалось мнение, что наставником его музы был Державин. Да, но тогда Державин одописец, а не Державин, благословивший, в гроб сходя, молодого Пушкина. Державин, не в «забавном слоге» сводивший счеты с вельможами, искавший расположения императрицы, но - в слезах и озарении чертивший последние строки оды «Бог» [393] Посмертный сборник Н.П. Гронского Стихи и поэмы (1936) открывался «отрывком из оды “Бог”» 1928 г.:
.
Русский «таинственник муз» и «разборщик стихотворств», тот же Сумароков строго делил язык пасторали и оды. В «пастушеских стихах»
гордые слова, сложения высоки...
В лугах подымут вихрь и возмутят потоки,
тогда как
Гремящий в оде звук, как вихорь, слух пронзает.
Ничего не случайно. Не случайно и лира Гронского прозвучала напряженной, героической одой. Для нашей трагической эпохи нужны гордые слова, пронзающие, как вихрь, слух.
Новь . Сб. 8 (Таллинн, 1935), стр.192-193.
О «Нови»
В одном из прошлых номеров «Меча» был отмечен неожиданный рост ревельской «Нови», решившейся на восьмом выпуске прорубить окно в Европу. Здесь мы постараемся дать обзор наиболее интересного материала, вошедшего в последнюю ее книгу.
Главное место в литературной части сборника занимают стихи. Тут целая своя антология эмигрантской поэзии по разнообразию представленных групп и поэтов. Сборник открывается большим стихотворением В. Сирина «Толстой», начатым в стиле виртуозной сиринской прозы.
... Коварная механика порой
<...> Он нам близок и понятен.
Но с середины Сирин впадает постепенно в патетический тон и окончательно изменяет своей манере, переходя с белого стиха на рифму. Ант. Ладинский дал три стихотворения из своего нового цикла «Пять чувств». Талант Ладинского, достигнув своей зрелости, вышел из романтических блужданий. Произошло это для нас незаметно потому, что целых два этапа его творчества не нашли своего выражения в отдельных сборниках. Стихи разбросаны по журналам и газетам, и теперь, собирая их в запоздавшую книгу, едва ли уже сам автор будет справедлив к преодоленным им темам. Из стихов, которыми представлен пражский Скит, надо отметить небольшую поэму Э. Чегринцевой «Шахматы», значительную и по своему многоплановому замыслу, и по мастерству исполнения. Чегринцева начинает перерастать пражскую группу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: