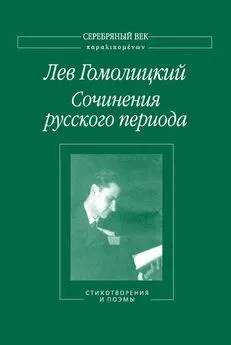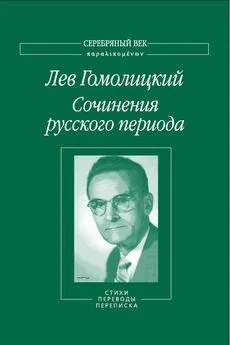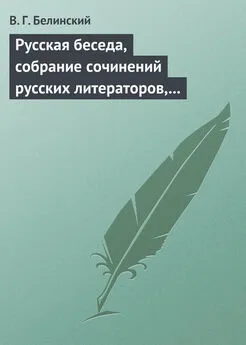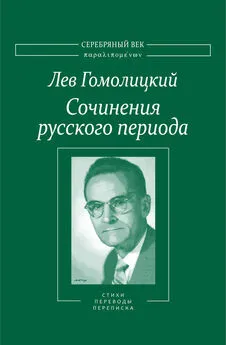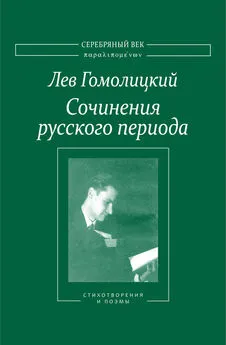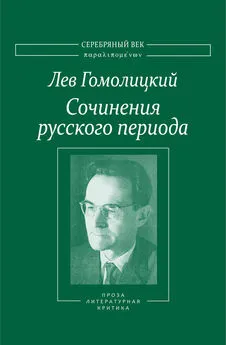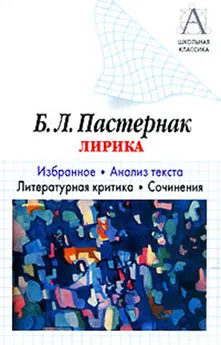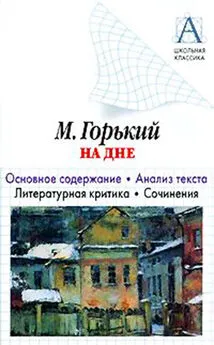Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3
- Название:Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978–5–91763–078–6 , 978–5–91763–081–6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3 краткое содержание
Межвоенный период творчества Льва Гомолицкого (1903–1988), в последние десятилетия жизни приобретшего известность в качестве польского писателя и литературоведа-русиста, оставался практически неизвестным. Данное издание, опирающееся на архивные материалы, обнаруженные в Польше, Чехии, России, США и Израиле, раскрывает прежде остававшуюся в тени грань облика писателя – большой свод его сочинений, созданных в 1920–30-е годы на Волыни и в Варшаве, когда он был русским поэтом и становился центральной фигурой эмигрантской литературной жизни.
Третий том содержит многочисленные газетные статьи и заметки поэта, его беллетристические опыты, в своей совокупности являвшиеся подступами к недошедшему до нас прозаическому роману, а также книгу «Арион. О новой зарубежной поэзии» (Париж, 1939), ставшую попыткой подведения итогов работы поэтического поколения Гомолицкого.
Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вадим Морковин дал в сборник фантастическую пьесу, которую называет «поэмой» - «Тобозо». Здесь соединены «величайший злодей» разочарованный Дон Жуан с «величайшим безумцем» рыцарем Дульцинеи Тобозской, Дон Кихотом.
Во второй части книги заслуживают внимания путевые очерки по Чехословакии и Польше М. Росс и П. Иртеля, очерк по истории Печерского монастыря и об археологических раскопках в Эстонии Л. Зурова. Здесь же помещена статья Д.С. Мережковского о Льве Толстом «Поденщик Христов». А. Бем дал статью, посвященную памяти С.В. Завадского.
Уделил сборник внимание и погибшим в эмиграции поэтам: Борису Поплавскому (дана подробная биографическая статья, написанная отцом покойного) и Ник. Гронскому.
Имя последнего начинает приобретать всё большую значительность в связи с новыми течениями в эмигрантской поэзии. Эта новая живая струя прерывается и в последнем сборнике «Нови». Реформаторским задором, берущим начало, впрочем, из самых глубоких традиций русской поэзии, проникнут поэтический «манифест» - «Священная Лира». Чтобы дать понятие, что это такое, приводим несколько выдержек:
« Мирные беседы . Говорили о стихах и поэзии. В нашем кружке это - самая страстная тема. Разговор, казалось бы, о самом мирном кончается зачастую спором, повышенными голосами, резкостями... Есть две поэтические партии. Одна утверждает, что стихи это... - книга законов Первого Человека, что в стихах начинается жизнь и к ним возвращается, к своему источнику... Другие - иронически - что стихи - “тихое лунное дело”, не больше. “Тихое, лунное дело” тоже чужая формула из “Комментариев” Георгия Адамовича.
Само слово стихи - тихое. Есть в нем китайская ляотцевская смиренномудрость: главный принцип религии Лаотце: тихое есть самое громкое, последнее - первое...
Тишина сеется, а возрастает буря. В молчании проходит мимо людей Бог и подымает в их душах магнетические бури, сотрясающие мир».
« Наше хозяйство . Известно, что звуку, как всему живому, дышащему, нужен воздух. Без воздуха дрожание струны будет только видимо, но не слышимо. Но лиры наши звучат. Мы дышим. Нас окружает воздух. Писатель зарубежник окружен литературной средою, питающейся от него, но и его питающей. Тихий лунный звук (если не фальшив, верен) резонирует тотчас, разрастаясь в симфонию...»
Будем надеяться, что авторы этих строк правы в своем одушевлении и «тихое» дело станет «громким». Нови же - пожелаем долголетия и дальнейшего роста.
Меч , 1936, № 7, 15 февраля, стр.6. Подп.: Г.Николаев.
Боевая разновидность
Слова взяли на учет, как разновидность боевую.
Н. Тихонов[394]Муза с лирой в руке напрасно взывает к поэтам: один из них прочищает винтовку, другой чистит скребницей коня, третий ораторствует с трибуны, четвертый согнулся над заводским станком. И вот, опомнившись, поэты обращаются к музе с призывами и серенадами под гармонику и патефон. Вотще - муза исчезла. Там, где она стояла, лежит одна лира с порванными струнами...
Всё это изображено в злободневной карикатуре «Литературного Ленинграда». Эпиграфом к ней - цитата из «поэтической дискуссии», где говорится, что советские поэты, два года тому назад отвергавшие личную лирику, сейчас все одновременно взялись за «создание любовных стихов».
«Вековые лирические традиции», к «защите» от коих некогда призывал Маяковский, теперь наспех возрождаются. Три кита, а на них по лефовскому замыслу должна была держаться новая пролетарская поэзия - «литература факта, агитационная лирика и социальный заказ», преданы проклятию. Бухарин на всесоюзном съезде писателей ясно потребовал от поэтов переключиться на лирику. То же, что главная задача советской поэзии - состоит в том, чтобы «развернуть образ человека нашего времени», поэты окончательно поняли после слов великого Сталина, произнесенных в памятную, благодаря им, дату - 4 мая 1935 года:
Внимание человеку!
Советские поэты поспешили наперебой записаться в лирики чистейшей воды. У некоторых «перековка» прошла быстро и легко, и сама критика остановилась в недоумении перед совершившейся метаморфозой.
Например, поэт Браун, еще недавно писавший на таком языке:
Тогда, как месть, как меч Дамокла
Над грудой царственных обуз,
Он самый прошлому, как жмоту,
В хайло вгонявший пули груз,
Прошел в обшарканных обмотках,
В дырявой жути рыжих буц...
Ныне внезапно обрел дар человеческой речи:
Ты уйдешь. Будет северный май
Над бессонной моей столицей.
Я скажу: «До свиданья!»
Ты скажешь: «Прощай!»
Больше голос мне твой не приснится [395] Николай Браун. Звенья. Стихи (<���Ленинград:> Советский писатель, [1937]), стр.59. Ср.: Гулливер, «Литературная летопись. Стихи Н. Брауна», Возрождение , 1935, 4 апреля, стр.4; Г. Адамович, «Поэзия здесь и там», Последние Новости , 1934, 25 октября, стр.2. Перепеч.: Г. Адамович. Одиночество и свобода. Составитель, автор предисловия и примечаний В. Крейд (Москва: Республика, 1996), стр.312-314.
.
Благодаря дискуссии о лирике ожили литературные организации. «Лирические речи» потекли в набитый лирикою зал. На одном из таких собраний, проходившем в петроградском Доме писателя, в «защиту» любовной (именно любовной) лирики выступила Е. Полонская. Между прочим, выводы свои она пояснила такими любопытными подробностями советского литературного быта:
– Когда молодой начинающий автор, придя в литконсультацию, начинает читать трескучие производительные [396] Следует: производственные.
стихи, где каждый образ штампован, опытный работник консультации, прослушав немного, прерывает начинающего автора: «Ну теперь прочти что-нибудь свое любовное». И тогда юноша или девушка, смущаясь, начинает читать совсем другие, иногда очень наивные стишки, но именно по этим стишкам можно узнать, есть ли у молодого автора проблески поэтического дарования. Здесь пошляк покажет свое лицо сразу. И это относится не только к начинающим, но и к более маститым поэтам, потому что любовная поэзия является подлинной пробой для поэта.
При всем своем рвении перед начальством, Полонская [397] Ср. о ней: Б.Я. Фрезинский, «Елизавета Полонская - ее жизнь и стихи, ее “Города и встречи”», в кн.: Е.Г. Полонская. Города и встречи. Книга воспоминаний (Москва: Новое литературное обозрение, 2008), стр.5-30.
высказала святую истину. В большинстве советские поэты, культурный уровень которых в общем невысок, выезжали на этих испытанных штампах «производительной» литературы. Теперь же, когда им пришлось говорить просто, на человеческом языке, в большинстве случаев пошляк действительно «показал свое лицо».
Так, например, известный сов. поэт В. Гусев в новом своем сборнике [398] Виктор Гусев. Слава. Стихи (Москва: Советский писатель, 1935).
так описывает семейную идиллию летчика, возвращающегося на землю:
Интервал:
Закладка: