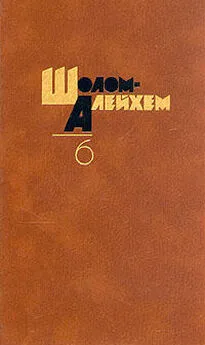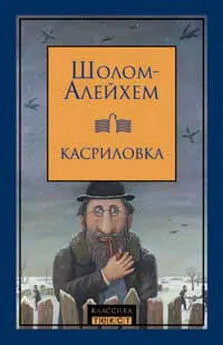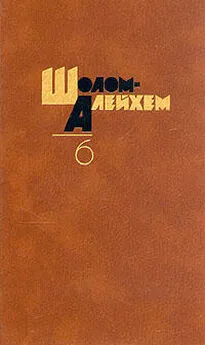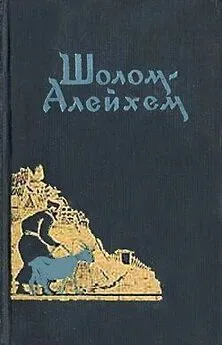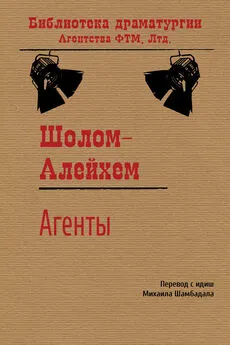Владимир Гопман - Любил ли фантастику Шолом-Алейхем? (сборник)
- Название:Любил ли фантастику Шолом-Алейхем? (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Гопман - Любил ли фантастику Шолом-Алейхем? (сборник) краткое содержание
В сборник вошли статьи В. Л. Гопмана последних лет. Несмотря на разнообразие представленных персоналий, их объединяет то, что все они, по выражению автора (основанному на известной тезе Станиславского), любят не себя в фантастике, а фантастику в себе. Среди «фигурантов» Аркадий Натанович Стругацкий, Сергей Александрович Снегов, Виталий Иванович Бугров, Александр Исаакович Мирер…
Любил ли фантастику Шолом-Алейхем? (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С протестом против такой фантастики и призывом к собратьям по перу «вернуться со звезд» выступили молодые писатели – англичане Лэнгдон Джоунс, Кристофер Прист, Дэвид Мэсон Мэссон, Чарлз Плэтт, Майкл Хэррисон, Питер Тейт, их американские коллеги Харлан Эллисон, Норман Спинред, Джон Сладек (все они группировались вокруг журнала «Новые миры», который с 1964 г. возглавил Майкл Муркок), выступили с требованиями актуализировать научную фантастику, максимально приблизить ее к современности.
Война во Вьетнаме, антирасистские выступления, рост преступности, наркомании и политического насилия, молодежное движение, экологический кризис, перенаселение – эти явления жизни западного общества 60-х годов стали определять тематику «Новой волны». «Новая волна» писала о недалеком будущем, отделенном от времени написания того или иного произведения не больше, чем двумя-тремя десятилетиями. И картины этого будущего были, пожалуй, наиболее мрачным и бесперспективным за всю историю фантастики. Такой «профиль будущего», используя выражение Уэллса, не был выдумкой, горячечным кошмаром, но лишь экстраполяцией, продолжением в будущего реальных тенденций английской действительности того времени. Озлобленный, порой сбивающийся на истерику протест против ужасов механистической цивилизации – таков был основной идейный и эмоциональный настрой тогдашней английской фантастики, в которой резко возросла роль сатиры и социального критицизма.
Писатели «Новой волны» утверждали, что фантастика должна отражать катастрофичность сознания современного человека, его страх перед грядущим апокалипсисом (экологическим и ядерным), потрясение от войны во Вьетнаме, роста преступности, политического терроризма. И чтобы показать внутренний мир героя, оглушенного меняющимся у него на глазах миром, непригодны традиционные, «конвенциональные» художественные средства НФ. Потому авторы «Новой волны» призывали использовать художественные средства, бывшие ранее лишь в ведении «большой литературы»: «поток сознания», усложненную символику, язык газет, кино, телевидения, рекламы, философскую терминологию, ненормативную лексику. Реализацией этих манифестов стали сборники, которые объединяли авторов, придерживавшихся таких взглядов – например, нашумевшая антология фантастики, составленная Харланом Эллисоном «Опасные видения» [210] .
Путь поиска, литературного эксперимента (в ряде случаев успешного – например, безусловно интересны попытки создать НФ поэзию – оказался коротким. «Новая волна» распалась, не просуществовав и десяти лет. Уже в 1970 году, на съезде Британской ассоциации писателей-фантастов, было официально признано, что движение умерло.
Распад «Новой волны» можно было предсказать. В сущности говоря, она никогда не представляла собой единое творческое направление, объединенное и организационно, и литературными манифестами, и под ее знаменами на недолгое время оказывались писатели, слишком разные по политическим взглядам и художественной манере. По сути дела, «Новая волна» была одной из составных частей «контркультуры» молодежного движения 1960-х гг. (с поправками, конечно, на эстетическую специфику фантастики), и ее постигла та же участь, что и все это импульсивно-анархическое движение. Критика отдельных сторон западной реальности потонула в хаосе формалистских приемов, в стилистических изысках, оборачивающихся подражанием, и прямым заимствованием из французского «нового романа», сюрреализма, «черного юмора». Поиски новой образности привели к тому, что «Новая волна» превратилась в эксперимент ради него самого.
В разгар движения мудрый Айзек Азимов, представитель той «традиционной» фантастики, против которой и выступала «Новая волна», предсказал движению скорый и бесславный конец, заметив, что когда «волна» схлынет, то откроется вновь берег «старой доброй фантастики». Классик оказался прав только в одном: «волна» в самом деле схлынула, унеся с собой пену и гальку, но «берег» НФ уже не был – да и не мог остаться – прежним. Выступление «сердитых молодых фантастов», не отменив прежние художественные каноны, выявило их ограниченность, показало, что фантастика отныне должна быть другой. В этом заслуга не только Майкла Муркока, лидера «Новой волны», но и ее идейных вдохновителей Джеймса Грэма Балларда и Брайана Олдисса. «Волна» принесла в английскую фантастику целый отряд способной молодежи – в первую очередь, надо отметить Кристофера Приста. Идейно-тематический диапазон фантастики расширился – «мини-революция», хотя и не смогла отменить прежние художественные каноны фантастики, выявила однако их ограниченность. К тому же за счет использования художественных приемов «большой литературы» произошло заметное сближение этих двух «рукавов» современного литературного процесса. «Новая волна» привлекла внимание к фантастике широкой читательской аудитории как в странах английского языка, так и во всем мире, и это было, пожалуй, одним из самых ее главных достижений.
Олдисс, солидаризуясь с программой «Новой волны», находился от самого движения в стороне – ему не по душе была поднимаемая вокруг него шумиха (такую же позицию, кстати сказать, занимал и Дж. Г. Баллард). Тем не менее Олдисс не просто поддержал движение своим авторитетом, но, когда журнал «Новые миры» оказался на грани банкротства, спас издание, сумев добиться для него государственной субсидии [211] . Фантастика, как считал Олдисс, должна меняться, как меняется весь мир, и заслугой «Новой волны» Олдисс считал то обстоятельство, что она открыла читателю настоящее, от трансплантации сердца до политического терроризма. Что же касается литературного эксперимента и поисков новых путей в литературе, то Олдисс мог дать фору любому «новатору», свидетельством чему – его романы «Доклад о вероятности А» [212] и «Босоногий в голове» [213] , которые критики называли одними из наиболее впечатляющих воплощений эстетики «Новой волны».
«Доклад…» – вариация на тему «дурной бесконечности»: нарисована картина, на которой нарисована картина, на которой нарисована картина. Сюжетно роман представляет собой описание того, как представители различных обитаемых миров наблюдают друг за другом, чем-то эта ситуация напоминает роман Азимова «Сами боги» – но лишь чем-то, поскольку, в отличие от книги американского фантаста, у Олдисса ничего не происходит на протяжении всего романа. И здесь дело не столько в том, о чемговорится, сколько в том, как,недаром американский литературовед заметил, что характерная черта романа Олдисса – «языковая пиротехника» [214] . «Босоногий в голове» – роман о войне с применением не атомного, а боевого психоделического оружия, т. н. ПХА, психо-психохимических аэрозолей. Роман, печатавшийся с продолжением в журнале «Новые миры», Доналд Уолхейм назвал собранием рассказов в духе Джойса и наиболее далекой от научной фантастики книгой Олдисса [215] .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: