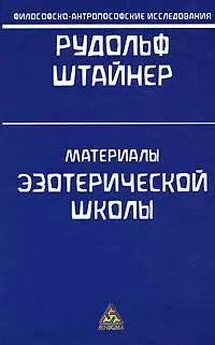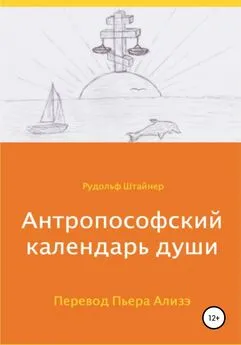Рудольф Штайнер - GA 5. Фридрих Ницше. Борец против своего времени
- Название:GA 5. Фридрих Ницше. Борец против своего времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рудольф Штайнер - GA 5. Фридрих Ницше. Борец против своего времени краткое содержание
GA 5. Фридрих Ницше. Борец против своего времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2–е изд.; «Заратустра», 4–е изд.; «По ту сторону добра и зла», 5–е изд.; «Происхождение морали», 4–е изд.; «Случай Вагнера», 3–е изд.; «Сумерки богов», 3–е изд.; «Ницше против Вагнера», «Антихрист», «Стихотворения». Публикация доныне неопубликованных сочинений Ницше, как и черновиков его трудов, фрагментов и т. д. все еще ждет своего часа.
I. ХАРАКТЕР
1
Сам Фридрих Ницше описывает себя как одинокого мечтателя и любителя ломать голову над загадками, как несовременную личность. Тому, кто шествует такими независимыми путями, как он, «никто не повстречается по пути: как раз с «независимыми путями» это и связано. Никто не появляется, чтобы ему пособить; со всем, что приключается, будь то опасность, случайность, озлобление или скверная погода, он вынужден справляться в одиночку», говорит он в предисловии ко 2–му изданию своей «Утренней зари». И все же нас так и подмывает последовать за этим одиночкой. Мне хочется повторить слова, сказанные им самим насчет его отношения к Шопенгауэру, уже применительно к моему собственному отношению к Ницше: «Я вхожу в число тех читателей Ницше, которые с первой же прочитанной его страницы со всей определенностью знают, что они прочитают каждую страницу, вышедшую из‑под его пера, прислушаются ко всякому его слову. Мое доверие к нему возникло сразу же… Я понимал его, словно он писал именно для меня: выражусь так, понятно, пускай даже мои слова прозвучат нескромно и глупо» {2} 2 «Несвоевременные размышления», «Шопенгауэр как воспитатель», § 2.
. Можно говорить так и ни в малой мере не ощущать себя «исповедником» мировоззрения Ницше. Да ведь и Ницше был несказанно далек от того, чтобы желать себе таких «исповедников». Вкладывает же он в уста своего Заратустры слова:
«Вы говорите, что веруете в Заратустру? Но побоку Заратустру! Вы — мои исповедники; но побоку всяческих исповедников!
Вы еще не отыскали самих себя; и тут вам попался я. Так‑то и поступают все верующие: оттого и грош цена всякой вере.
Так вот, я призываю вас: бросьте меня и отыщите самих себя; и лишь когда вы все от меня отречетесь, я вновь вернусь к вам.» {3} 3 «Заратустра», ч. 1–я, «Речи Заратустры» «О щедрой добродетели», § 3.
Ницше — нисколько не мессия и не основоположник религии; поэтому он вполне может желать обзавестись друзьями своих идей; и он не может желать себе истовых исповедников его учения, которые отказываются от своего «Я», чтобы отыскать — его.
В личности Ницше кроются инстинкты, которым ненавистен весь вообще круг представлений его современников. С инстинктивным отвращением бежит он наиболее важных культурных идей того круга, среди которого рос и развивался; причем происходит это не так, как мы отвергаем утверждение, подметив в нем логическое противоречие, но как избегали бы цвета, доставляющего глазу боль. Отвращение коренится в непосредственном чувстве; при этом осознанные соображения вообще не принимаются в расчет. Ницше не по нраву все, что ощущают прочие люди, прокручивая в голове такие идеи, как «вина», «угрызения совести», «грех», «загробная жизнь», «идеал», «блаженство», «отечество». Инстинктивность неприятия перечисленных идей ставит Ницше в оппозицию и так называемым «свободомыслящим умам» современности. Всем им ведомы рассудочные возражения против «заблуждений старины»; но как редки среди них такие, что могли бы сказать про себя, что это их инстинкты больше с ними не согласуются! Как раз инстинкты‑то и играют с современными вольнодумцами коварные шутки. Мышление обретает независимость от традиционных представлений, а вот инстинкты все не могут перестроиться на соответствие этому новому характеру рассудка. Эти «свободомыслящие умы» помещают какое‑либо понятие современной науки на место старого представления; но говорят они про него так, что становится понятно: рассудок здесь движется какими‑то своими, несовпадающими с инстинктами путями. Рассудок отыскивает праоснову всех явлении в материи, в энергии, в природной закономерности; инстинкты же между тем побуждают к тому, чтобы ощущать в отношении данных сущностей то же самое, что испытывают все прочие люди перед лицом личного Бога. Умы такого рода всячески избегают упрека в отрицании Бога; но делают они это не потому, что их представление о мире приводит их к чему‑то такому, что совпадает с каким бы то ни было представлением о божестве, а поскольку они унаследовали от предков качество, заставляющее их испытывать при слове «атеист» инстинктивный ужас. Великие естествоиспытатели подчеркивают, что они не отрицают таких представлений, как Бог и бессмертие, но желали бы их только реформировать в духе современной науки. Их инстинкты также плетутся позади их разума.
Многие из этих «вольнодумцев» отстаивают ту точку зрения, что человеческая воля несвободна. Они утверждают: в определенном случае человек должен действовать так, как того требует его характер и условия, оказывающие на него действие. Но понаблюдав за этими противниками «свободы воли», мы замечаем, что инстинкты этих «вольнодумцев» заставляют их с ужасом отворачиваться от тех, кто совершает «дурные» дела, точно также, как и инстинкты прочих, придерживающихся той точки зрения, что «свободная воля» способна произвольно становиться на сторону добра или зла.
Противоречие между рассудком и инстинктом представляет собой характерную особенность наших «современных умов». Даже в наиболее свободомыслящих умах современности все еще продолжают существовать инстинкты, заложенные в них христианской догматикой. Полную противоположность этого являет здесь натура Ницше. Ему вообще нет нужды размышлять относительно того, имеются ли основания, побуждающие отвергать гипотезу личного мироустроителя. Его инстинктивная гордость слишком велика, чтобы склониться перед чем‑то подобным; и поэтому он отвергает любое представление в таком роде. Вместе с Заратустрой он провозглашает: «Выскажу‑ка я вам теперь то, что у меня на сердце, други мои: когда бы боги существовали, как мог бы я вынести то, что сам — совсем даже не бог! Так что нет никаких богов» {4} 4 «Заратустра», ч. 2-я, «На островах блаженных».
. В нем нет и следа того, что побуждало бы его говорить о «вине» самого себя или кого‑нибудь другого — в связи с каким‑либо совершенным деянием. Чтобы установить неприемлемость такой «виновности», ему вовсе нет нужды в теории «свободной» или же «несвободной» воли.
Вот и патриотические чувства немецких соотечественников противны инстинктам Ницше. Он не в состоянии поставить свое восприятие и мышление в зависимость от круга идей народа, внутри которого он родился и был воспитан; точно также — и от времени, в котором живет. В работе «Шопенгауэр» как воспитатель» Ницше пишет: «Сущий провинциализм — разделять убеждения, о которых и слыхом не слышали в каких‑нибудь двухстах милях отсюда. Запад и Восток — всего–навсего проведенные мелом линии, которые прочерчивает некто у нас на глазах, дабы насмеяться над нашими страхами и опасениями. «Попробую‑ка я добиться свободы», — говорит юноша сам себе; и тут перед ним вырастает то препятствие, что в силу какой‑то случайности два народа ненавидят друг друга, или же что море пролегло между двумя какими‑то частями суши, или что вокруг этого юноши проповедуется религия, которой и в помине не было пару тысяч лет назад». Чувства, владевшие немцами во время войны в 1870 г., находили так мало отклика в душе Ницше, что «между тем, как над Европой раздавались отголоски канонады сражения при Верте (Worth)», он забился в укромный уголок в Альпах, «весь в размышлениях и парадоксах, а значит, в одно и то же время чрезвычайно обеспокоенный и беззаботный», и записывал свои идеи по поводу греков. А когда несколькими неделями спустя «под стенами Меца» оказался уже он сам, «он все еще не освободился от вопрошаний», которыми задался в отношении жизни и «греческого искусства». (См. «Опыт критики» во втором издании его «Рождения трагедии».) По завершении войны он настолько мало разделял энтузиазм своих немецких современников по поводу одержанной победы, что уже в 1873 г. говорил о «скверных и опасных последствиях» победоносной борьбы (в сочинении, посвященном Давиду Штраусу). Признаком полного помрачения было в его глазах то утверждение, что победу в этой борьбе одержала также и немецкая культура, и он указывал на опасность такого помрачения, поскольку в том случае, если оно возобладает в немецком народе, существует опасность того, что победа «обратится полным поражением: в поражение, и даже в полное изничтожение немецкого духа в пользу «Германского рейха»». Вот каков ход мыслей Ницше в то самое время, когда Европа была полна национального воодушевления. Это мировоззрение несовременной личности, борца против своего собственного времени {5} 5 «Kampfer gegen seine Zeit», слова самого Ницше из «Несвоевременных размышлений», см. «О пользе и вреде истории для жизни», § 6. Они взяты Рудольфом Штейнером в качестве подзаголовка всего сочинения.
. Можно назвать еще и много иных вещей, помимо приведенных, которые указывают на принципиальное несходство восприятий и представлений Ницше — с восприятиями и представлениями его современников.
Интервал:
Закладка: