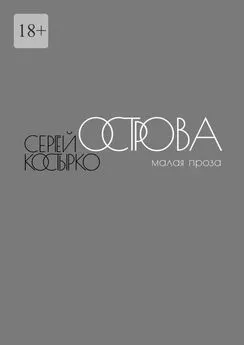Сергей Костырко - Простодушное чтение
- Название:Простодушное чтение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Костырко - Простодушное чтение краткое содержание
Образ сегодняшней русской литературы (и не только русской), писавшийся многолетним обозревателем «Нового мира» и «Журнального зала» Сергеем Костырко «в режиме реального времени» с поиском опорных для ее эстетики точек в творчестве А. Гаврилова, М. Палей, Е. Попова, А. Азольского, В. Павловой, О. Ермакова, М. Бутова, С. Гандлевского, А. Слаповского, а также С. Шаргунова, З. Прилепина и других. Завершающий книгу раздел «Тяжесть свободы» посвящен проблеме наших взаимоотношений с понятиями демократии и гуманизма в условиях реальной свободы – взаимоотношений, оказавшихся неожиданно сложными, подвигнувшими многих на пересмотр традиционных для русской культуры представлений о тоталитаризме, патриотизме, гражданственности, человеческом достоинстве.
Простодушное чтение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ну а тогда: что в судьбе Фадеева было случайного или по-настоящему, вынужденного, как, скажем, в ситуации со сталинскими стихами Ахматовой, вымаливавшей ими у Сталина жизнь сыну – об этом она вспоминала потом с содроганием: «Кидалась в ноги к палачу…». Почему я должен считать случайным, что на трибуны писательских собраний учить собратьев жизни и ремеслу поднимался именно Фадеев, а не Платонов или Мандельштам. Да нет тут ничего случайного – получается, что на самом деле именно это и ценил больше всего Фадеев в своей жизни писателя.
Я могу посочувствовать тем писателям, талант которых обескровила «болезнь партийности» (выражение Сокурова), попытки приспособить литературу для решения неких внелитературных задач. Мы видим, как ломали себя Горький, Олеша, Маяковский, тот же Зарудин. Но в чем ломал себя Фадеев?
Почему я, например, оценивая роль Фадеева в русской литературе, должен держать в голове еще и то, что сам он очень страдал от необходимости делать то, что делал; что в нем погиб замечательный писатель? Я знаю только, что та самая рука, которая, как почему-то считал Фадеев, предназначалась для написания высокохудожественной прозы, набрасывала конспектики докладов про тот вред, который наносят русской культуре сочинения литературных подонков Зощенко и Ахматовой. И почему я должен считать подлинным того Фадеева, который так и не появился в русской литературе, а не того, который на самом деле и определял ее ход?
Повесть Фукса называется «Двое в барабане». В пару с Фадеевым автор ставит самого Иосифа Виссарионовича. Тиран, конечно, но тоже персонаж по-своему «драматичный»: философ-стоик по жизни, скорбно принимающий тяжесть своей исторической миссии, сознающий неизбежность обострения классовой борьбы и карательных санитарных мер. И вообще – натура тонкая, чувствительная, с душевной проницательностью разглядевшая, например, потайные уголки души того же Фадеева, где угнездилась тень Мечика из «Разгрома». Сталин в повести отводит душу в тайном чтении романа Булгакова «Мастер и Маргарита» и очень огорчается, что не имеет возможности опубликовать его. Да, роман действительно талантлив, особенно по части всей этой чертовщины, умению менять минусы на плюсы в изображении Сатаны или начальника тайной полиции Иудеи Афрания, во внешности которого польщенный Сталин мог, по мнению Фукса, угадывать себя.
Нет, конечно, в первых главах повести, посвященных Сталину, есть некая как бы ироничность. По-видимому, повествование должно было изображать некий процесс в сознании
Фадеева, создающего себе бога из душегуба, параноидальный страх которого за собственную власть стоил жизни не только сотням соратников, но миллионам сограждан, не имевших никакого отношения к кремлевским играм. Однако концептуальная установка автора – серьезно и с доверием относиться к ситуации, когда субъективно честный и умный человек может стать объективно злом для истории и при этом не видеть за собой никакой вины, – иронию эту приглушает. Авторское отношение к Фадееву отчасти переносится и на Сталина в повести. И сталинские главы Фукса в сознании нынешнего рядового читателя вполне встают в один ряд с сочинениями новейших, входящих в моду писателей-сталинистов.
«Сталин перечитывал послание Ивана IV Андрею Курбскому: „Апостол сказал: к одним будьте милостивы, отличая их, других же страхом спасайте, извергая из огня“. Мысль о спасении страхом запомнилась. Не губить, а спасать страхом. В этом была суть»; «Товарищ Сталин надеялся на лучшую судьбу и благодарность потомков. Он никогда ничему не удивлялся, не разводил руками. Знал наперед. Его уверенность убеждала миллионы. Невысокий пожилой человек с добрым крестьянским лицом не спеша поднимался на трибуну и освещал массам путь волшебным фонарем разума».
Вот он, бог Фадеева. Которому жизнь положил (и если б только свою) этот несостоявшийся классик.
4. Тяжесть свободы
Процесс аутентификации
1
Сергей Залыгин. Заметки, не нуждающиеся в сюжете// «Октябрь», № 11, 2003; Дмитрий Галковский. Пропаганда. Псков, 2003
Не так давно я прочитал одного английского православного епископа… Антония (Блума), он пишет примерно следующее: вот француз просыпается утром, он что? – разве он думает о том, что такое Франция? И кто такие французы? Нет, никогда, потому что это ему дано с детства, это для него данность, и все одним словом высказано. А русский человек? Он уже несколько веков размышляет над тем, что такое Россия, и чем дальше, тем меньше он понимает. Тем более – кто таков есть он сам, русский человек? Ей-богу, я всю жизнь удивлялся этому точно так же, как и владыка Антоний.
Перед моим окном береза, я думаю о ней. Но ведь от моих размышлений она не становится сосной и даже – чуть-чуть не березой?
Сергей Залыгин «Заметки, не нуждающиеся в сюжете»
Советская культура возникла после уничтожения русской культуры. Эту культуру (пускай хрупкую и таящую в себе внутренние изъяны, но великую) уничтожили две силы: во-первых, к 17-му году «все науки превзошедшие» полуобразованные азиатские и полуазиатские интеллигенты (прежде всего евреи, украинцы и грузины), во-вторых, – русское и украинское крестьянство…
Дмитрий Галковский «Пропаганда» (с. 27)
Так получилось, что «Заметки…» Залыгина и «Пропаганду» Галковского я читал параллельно. Такое совмещенное чтение очень полезно при формулировании для себя некоторых понятий из области «аутентификации» (Сартр).
Тексты эти во мне особо друг с другом не спорили. Пересечение их – а оба автора размышляют о судьбе русского общества и русской культуры в XX веке – достаточно специфическое. Как пересечение традиции старой русской литературы (назовем ее условно «гуманистической традицией») с сегодняшним социопсихологическим состоянием нашего общества.
«Заметки» Залыгина – это эхо еще дореволюционной русской интеллигенции. Ну а с публицистики Галковского – самой востребованной, пожалуй, в 90-х годах – начался процесс легализации новых русских интеллектуалов, отказывающихся от непонятного и обременительного для них в самом духе этой старой русской культуры.
Чтение этих двух текстов – своеобразный замер времени. Залыгин здесь – разумеется, прошлое.
Галковский – настоящее и будущее.
«Пропаганду» его составили в основном статьи начала 90-х годов (почти все они выставлены на сайте Галковского в «Разбитом компасе»). Но это отнюдь не оглядка в прошлое. У книги есть качество, делающее ее абсолютно современной. Актуальной.
Десять лет назад статьи эти мы читали по-другому. Тогда еще можно было зажмуриться, объясняя агрессивность автора и фельетонные перехлесты его повышенным градусом тогдашней перестроечной публицистики, а также болью человека, оскорбленного убожеством советского и постсоветского социума в широком значении этого слова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
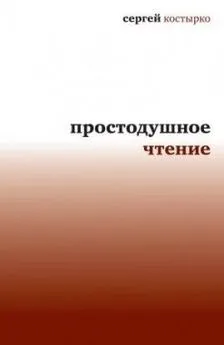



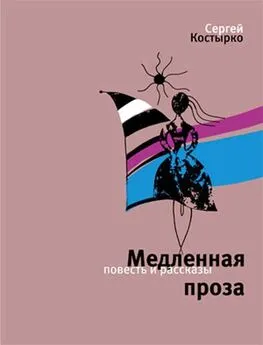
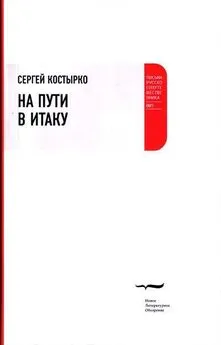
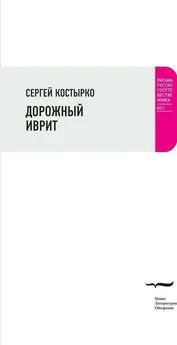
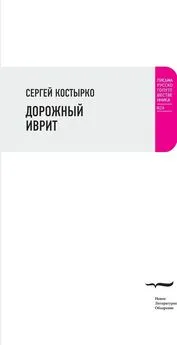
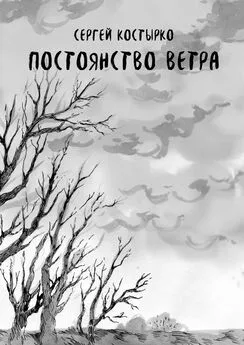
![Сергей Васильев - Простодушный [СИ]](/books/1092809/sergej-vasilev-prostodushnyj-si.webp)