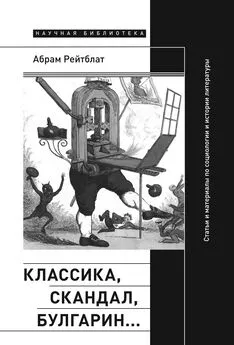Андрей Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы
- Название:При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-96911-015-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы краткое содержание
Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор. Главным героем не только своей книги, но и всей новой русской словесности Немзер считает великого, но всегда стремящегося уйти в тень поэта – В. А. Жуковского.
При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Понятно, почему Катенину претил общий настрой – он, по верному замечанию Пушкина, и впрямь был человеком прежней эпохи. Сам Катенин, впрочем, никогда бы не согласился с подобной аттестацией. Поэзия всегда одна, разные времена лишь открывают новые жанровые и стилистические перспективы, но не уничтожают прежние образцы, а главное никак не допускают всегда, согласно Катенину, дурной эклектики. Если Гораций и Расин не сочиняли баллад, это не значит, что сей род дурен. Дурны баллады Жуковского с их лиризмом, суггестивностью, меланхолией. В 1815–1816 годах Катенин, прекрасно чувствовавший семантические перспективы жанра, демонстрирует все основные варианты баллады: о любви («Наташа»), о преступлении («Убийца»), о любви, превращающейся в преступление («Ольга»), о темных силах, губящих человека («Леший»), об автономном величии поэта («Певец»). Если в «Ольге» он оспаривал конкретное решение Жуковского (переложение «Леноры» Бюргера в «Людмиле»), если «Убийца» мыслился ответом на перевод Жуковским «Ивиковых журавлей» (почему не на басню «Совесть», почерпнутую И. И. Дмитриевым из Флориана, где отцеубийца, слыша в щебете воробьев страшные обвинения, бросает в гнездо камнями и тем самым выдает себя?), то «Леший» и «Певец» появились прежде, чем Жуковский переложил «Лесного царя» и «Графа Гапсбургского». Речь таким образом шла не только о «неверных переводах», но о критике балладной системы Жуковского в целом. Катенина раздражало не то, что Жуковский обращался к иноязычным источникам – сам он поступал так же, а формальной «русификации» колорита в «Людмиле» было не меньше, чем в «Ольге». Требовалась не условная национальная окраска, а достоверное изображение народно-патриархального мироощущения; фольклорные мотивы мыслились не как призма, сквозь которую созерцается душа современника, но как самоценность. Поэтому Катенину глубоко чужда семантическая двусмысленность лирических баллад Жуковского – поэтому ему нужен слог нагой, точный и раздражающий приверженцев гармонии своей грубоватой энергией. Классическое последовательно жанровое мышление Катенина превращало его экспериментальные баллады в образчики ультраромантизма. Мужественная борьба Катенина с гладкописью и лиризмом была чревата серьезными издержками – от обеднения психологического рисунка до утраты собственно стиховой гармонии. С другой же стороны, именно Катенин напоминал об ощутимости отдельного слова (в поэзии Батюшкова, Жуковского и особенно их эпигонов теряющего собственное значение, растворяющегося в потоке красивых и выветренных формул); катенинская «простонародность» вела к словесной предметности, столь важной для Пушкина и послепушкинской поэзии (Тынянов справедливо говорил о возрождении катенинских поэтических приемов у Некрасова и А. К. Толстого).
Внимательно вглядевшись в поэтическое движение рубежа 1810—1820-х годов, мы замечаем, что одиночество Катенина (оставляем в стороне сложный вопрос о литературной позиции Грибоедова, во многом Катенину близкой, но отнюдь не тождественной) обусловлено не столько вектором эстетических поисков, сколько их радикализмом, не столько позитивной, сколько негативной стороной катенинской творческой программы. Обращение к фольклорной традиции, обычно связываемой с установкой на прозаизацию, было значимой литературной потребностью. Свидетельством тому интереснейшие эксперименты Жуковского в переводах из Гебеля (плохо принятые современниками, а позднее справедливо сопоставленные Пушкиным с простонародными балладами Катенина). Другое дело, что «архаизм» Жуковского был культурнее и сдержаннее – лидер «школы гармонической точности» умел и в прозаизированном тексте сохранить дух поэзии. Другой важный сюжет из того же ряда – поэтическая практика молодых Дельвига и Кюхельбекера, основанная на пристальном внимании к русской народной поэзии, античности и немецкой преромантической словесности.
В 1817 году, едва выйдя из Лицея, Кюхельбекер публикует программную статью «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности», основные тезисы которой несомненно сложились в ходе дружеского общения с Дельвигом, тех совместных чтений русских и германских поэтов, о которых мы знаем из воспоминаний Пушкина. Кюхельбекер жестко критикует классицистическую поэзию века минувшего, сочувственно упоминает экспериментировавших с белым стихом В. Т. Нарежного и А. Н. Радищева, с восхищением пишет об эквиметрических переводах А. X. Востокова из Горация (тут же напомнив о приверженности Востокова германской музе) и «Илиаде» Н. И. Гнедича, утверждающей на русской почве древний гекзаметр. Вслед за комплиментами Гнедичу идет впечатляющая кода: «С другой стороны, Жуковский не только переменяет внешнюю форму нашей поэзии, но даже дает ей совершенно другие свойства. Принявши образцами своими великих гениев, в недавние времена прославивших Германию, он дал (выразимся словами одного из наших молодых поэтов) германический дух русскому языку, ближайший к нашему национальному духу, как тот, свободному и независимому». Здесь показательно многое: и умолчание о других поэтах «школы гармонической точности» (не только о Вяземском, но и о непременно сопутствующем Жуковскому Батюшкове), и отождествление «русского» с «германским», и менее отчетливо выраженное (зато ощутимое в тогдашней поэтической практике автора и Дельвига) признание взаимосвязи между новейшей элегической поэзией, доставившей заслуженную славу Жуковскому, и обращениями к древностям, национальным и общеевропейским.
Античность и народность – главные ориентиры Дельвига и Кюхельбекера, непрестанно экспериментирующих с раритетными стиховыми размерами, внимательных к свежим неиспорченным чувствам «простого» и/или «древнего» мира, стремящихся соединить инокультурный поэтический язык с новейшим содержанием. В этот сложный и не вполне устойчивый смысловой комплекс как непременные составляющие входили: убежденность в священном статусе поэзии и собственно поэта; идея поэтического содружества, подразумевающая своеобразное распределение ролей (Кюхельбекер – пламенный энтузиаст, Дельвиг – мудрый, улыбчиво-снисходительный ленивец-счастливец, скоро сблизившийся с выпускниками Лицея Баратынский – разочарованный меланхолик, Пушкин – безусловный корифей со своими особыми правами; идея прирастающего «союза поэтов», демонстративной до эпатажа взаимной поддержки во многом держалась удивительным педагогическо-организаторским даром Дельвига); тоска по недостижимой – здесь и сейчас – высшей гармонии (отсюда естественность элегических мотивов, проникающих и в гражданскую лирику, и в лирику эпикурейскую, и даже в тонкие фольклорные имитации).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



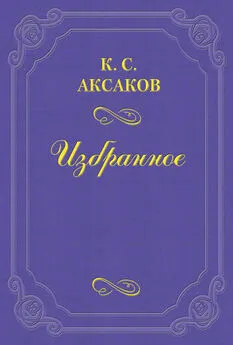


![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/1143259/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati.webp)