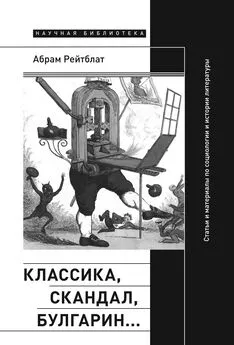Андрей Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы
- Название:При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-96911-015-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Немзер - При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы краткое содержание
Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор. Главным героем не только своей книги, но и всей новой русской словесности Немзер считает великого, но всегда стремящегося уйти в тень поэта – В. А. Жуковского.
При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я горы, долы и леса
И милый взгляд забыл,
Зачем же ваши голоса
Мне слух мой сохранил.
Потому и распевает про «чашу бытия» еще молодой, здоровый и бодрый доктор Старцев, не зная, что суждено ему стать Ионычем.
Не нарушайте ж, я молю.
Вы сна души моей
И слова страшного «люблю»
Не повторяйте ей.
Дельвиг знал, как страшна любовь, ибо был всегдашним заложником и гением этого чувства. Любовь его оставалась неутоленной, но от того не ослабевала. Горечь семейной драмы, настигшей поэта в последние годы, пряталась в не предназначенных для печати стихах и тщательно обдумываемой повести. План ее Дельвиг однажды рассказал Вяземскому – видимо, потому что велика была потребность выговориться, а в общем-то не близкий Дельвигу князь Петр Андреевич мог и не почувствовать личного подтекста грустной истории.
Любовь у Дельвига – это не только чувство к женщине. Это тяга к гармонии, к скрытому строю распадающегося мира. Отсюда его страсть к чужому творчеству, отсюда – особое чувство к Пушкину, отсюда редакторский зуд, постоянное стремление открыть, разбудить, поддержать новых и новых творцов. Отсюда же медлительность, долгое вынашивание замыслов, тщательная отделка, равнодушие к успеху – все то, что вместилось в пушкинскую формулу: «Ты гений свой воспитывал в тиши».
«Старая записная книжка» умницы Вяземского сохранила для нас бесценное свидетельство: «Дельвиг говаривал с благородною гордостью: “Могу написать глупость, но прозаического стиха никогда не напишу”». Мало кто из русских литераторов мог (да и хотел) такое сказать. Совсем мало, кто имел на эти слова полное право. У Дельвига оно было. Глупостей, кстати, он тоже никогда не писал.
1998Изгнанник рая
Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844)
Формулу своей судьбы Баратынский нашел рано:
Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.
………………………………………………………
Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.
…………………………………………………
Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..
Обращаясь к ближайшему другу, Баратынский оспаривал заветную мысль их общего учителя: раритетный размер (чередование нерифмованных четырех– и трехстопных амфибрахиев) и античные декорации этих стихов 1821 года отсылают к «Теону и Эсхину» Жуковского (1815). У Жуковского сполна вкусивший горечь бытия (потерявший любимую) Теон увещевает Эсхина, потратившего жизнь на погоню за призраком счастья:
О друг мой, искав изменяющих благ,
Искав наслаждений минутных,
Ты верные блага утратил свои —
Ты жизнь презирать научился.
…………………………………
Все небо нам дало, мой друг, с бытием:
Все в жизни к великому средство;
И горесть и радость – все к цели одной:
Хвала жизнедавцу Зевесу!
Для Жуковского «счастье» – ценность преходящая; он счастлив и в несчастье, ибо мир благ, а люди – дети Бога («жизнедавец Зевес» здесь только «исторический псевдоним»). Для Баратынского «счастье» – ценность высшая. И совершенно недостижимая. Баратынский не отвергает жизнь, но всегда ощущает ее болезненное начало. В человеке живет лишь «искра небесная» (Шиллерова радость потеряла свою властительность), а род людской – дерзкое и заведомо неудачное создание взбунтовавшегося титана.
А потому земные антиномии – мнимость. Можно отдаться погоне за пленительным призраком. Можно стоически сносить удары судьбы и гордиться свободой от обольщающих миражей.
Дало две доли Провидение
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
Иль безнадежность и покой.
В этих стихах 1823 года Баратынский не столько выбирает вторую – «холодную» – долю, сколько отвергает первую:
Своим бесчувствием блаженные,
Как трупы мертвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
Встают со скрежетом зубов, —
Так вы, согрев в душе желания,
Безумно вдавшись в их обман.
Проснетесь только для страдания,
Для боли новой прежних ран.
Человек способен не на страсть и чувство, а на их более или менее удачную и продолжительную имитацию. Если он счастлив, то ошибкой. Даже возникающая «в обаянье сна» ласковая фея сопровождает свои дары условиями, которые отравляют любую награду. И тем самым ее уничтожают:
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон.
А раз так, то: «К чему невольнику мечтания свободы?» Однако именно в начинающемся этим безнадежным вопросом гениальном стихотворении 1832 года Баратынский обнаруживает тщету того самого холодного покоя, который должен уберечь человека от гротескной участи оживающего мертвеца. Уже в зачине мы ощущаем тайное клокотание страсти. Как резкие переносы взрывают чеканные классические ямбы, так мысль крушит стройную архитектонику внешне устойчивого мирового порядка.
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных брегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветр не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.
Микрокосм отражает макрокосм. Пушкинский, свободный, лишь Богу подвластный, ветер подчиняется отвлеченному закону. Что уж говорить о любви или поэтическом творчестве? Человек обречен старению, чувства – охлаждению, страсть – угасанию, как обречен гибели весь здешний мир. Элегии об исчезающей (а потому – смеха достойной) любви отражаются в футурологическом кошмаре «Последней смерти». Словом:
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим и позабудем;
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желания со жребием своим.
И будет счастлива, спокойна наша доля.
Как весомы «любимые» символы – «удел», «рабы», «жребий» (на их неодолимой мощи держался трагизм ошеломившего Пушкина и ошеломляющего нас «Признания»)! Каким обманчиво плавным убаюкивающим стал только что корчившийся в муках переносов александрийский стих. И даже отточия в переломном пункте Баратынский не ставит – он буквально криком рвет (и порвать не может) скрепу «законной» четы рифм:
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.
Интервал:
Закладка:



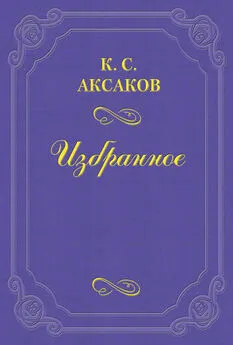


![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/1143259/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati.webp)