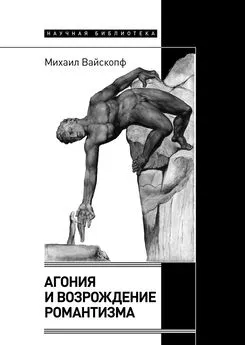Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма
- Название:Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0314-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма краткое содержание
Новая книга известного израильского филолога Михаила Вайскопфа посвящена религиозно-метафизическим исканиям русского романтизма, которые нашли выражение в его любовной лирике и трактовке эротических тем. Эта проблематика связывается в исследовании не только с различными западными влияниями, но и с российской духовной традицией, коренящейся в восточном христианстве. Русский романтизм во всем его объеме рассматривается здесь как единый корпус сочинений, связанных единством центрального сюжета. В монографии используется колоссальный материал, большая часть которого в научный обиход введена впервые. Книга М. Вайскопфа радикально меняет сложившиеся представления о природе русского романтизма и его роли в истории нашей культуры.
Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С другой стороны, к собственно эстетическому пафосу в России неизменно примешивались элементы религиозной или же просветительской дидактики, нередко слишком расплывчатые, чтобы можно было однозначно их отследить. Далеко не всегда было ясно, подразумевается ли под «мыслью» преимущественно поучительная сторона искусства, запечатленная в статуях и на полотнах с библейской или исторической тематикой, либо адекватное, «идеальное» – в техническом плане – исполнение замысла, либо, наконец, оптимальное сочетание того и другого. Скажем, героиню «Двух призраков» Ф. Фан-Дима, как и всех прочих романтических персонажей, завораживает «Мадонна» Рафаэля – а вернее, очередная ее копия: «Но и в этой копии можно было понять мысль Рафаэля – наперсника неба <���…> Я видела одушевленную мысль и преклонилась пред небесною мыслию » [329].
В любом случае такая мысль – даже безотносительно к самому «содержанию» картины – всегда несла на себе отсвет сакральной одушевленности и подвергалась феминизации. Уже в своей дебютной «Женщине» (начало 1831 г.), написанной не без влияния Вакенродера, Гоголь декларировал сопричастность искусства Божеству. Творческая мысль здесь вызревает в голове, «челе» обожествленного, отторгшегося от суетной жизни художника – подобно Афине, рождающейся из головы Зевса. При этом она получает подчеркнуто софийную трактовку. «Божественный мудрец» Платон, восхваляя женщину, называет ее «языком богов» – ср. Логос – и «мыслью» художника. Пусть сам живописец стремится к ее воплощению – для адепта, восторженно созерцающего картину, вещество исчезает, «и перед ним открывается безграничная, бесконечная, бесплотная идея художника» (столь же безграничная и потому невыразимая, добавим, как грядущая русская «мысль» в «Мертвых душах»). Маркировано даже имя прекрасной героини, замещающей или олицетворяющей здесь это софийное начало, – Алкиноя, т. е. Сильная умом. Согласно гоголевскому Платону, для поклонника красоты подлинное эротическое назначение женщины состоит лишь в том, чтобы вернуть его душу на небесную родину, к источнику «идей»: «И когда душа потонет в эфирном лоне женщины, когда отыщет в ней своего отца – вечного Бога, своих братьев – дотоле невыразимые землею чувства и явления – что тогда с нею? Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю радостную в груди Бога жизнь, развивая ее до бесконечности…»
Нетрудно заметить, что мысль, олицетворяемая возлюбленной, выполняет в «Женщине» такую же – в обоих случаях заданную христианско-неоплатонической традицией – посредующую, связующую роль, которую до того выполняла у Шевырева материнская мудрость в одноименном стихотворении: обе возносят визионера к Богу. Но есть и принципиальное различие. У поэта-любомудра верховный Даритель жизни самим Своим существованием оправдывает и упраздняет любые ее ужасы – бури, извержения вулканов, войны, кровавые революции, – а потому их перечень, развернутый в стихотворении, парадоксально подытоживается всеобщим благодарственным гимном: «И прерывалося стенанье, И всесотворшего Творца Хвалило всякое дыханье». Хотя шевыревский визионер, окрыленный мудростью, возносится к небесам в персональном мистическом трансе, он по-прежнему сроднен в нем со всем тварным миром, тогда как у юного Гоголя в столь же восторженной unio mystica преобладает пока индивидуальная ностальгия регрессивно-эскапистского толка, созвучная, в сущности, романтическому пафосу смерти. Это все те же контрастные горизонты романтической религиозности – позитивно-жизнестроительный и негативный, в «Женщине» нашедший эротико-эстетическое преломление.
Существенно иную версию софийной темы Гоголь разрабатывает в более позднем «Портрете», причем в обеих его редакциях. Тут, в частности, рассказывается о шедевре, который прислал в Академию живописец-подвижник, истово изучавший искусство в Италии и «вынесший из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли». Идея эта, внушенная свыше, нисходит к своему адепту: она воссияла в «чистом, непорочном, прекрасном, как невеста, произведении художника». Словом, с софийным подтекстом в повести характерно увязаны богородичные коннотации: на картине изображены некие «небесные фигуры» – какие именно, автор не уточняет. Затем, согласно романтическому принципу циркуляции сакральной «мысли», та вместе с «небесными фигурами» устремляется ввысь, словно возвращаясь (правда, только метафорически) к своему верховному источнику [330]: «Картина между тем казалась все выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли» (здесь и далее я использую редакцию 1842 г.).
Но ведь «мысль», эта таинственная психея мира, воплощалась также в пейзажной и бытовой живописи. Возникал вопрос – откуда черпал ее автор: в самой ли (в том числе «низкой») действительности, в собственной ли душе – как проекции или отражении Божества – либо в том и другом? Что соединяет тогда эти начала между собой? Микеланджело у Одоевского извлек эту готовую «мысль» из-под камня. Значит, она до того хранилась в мире, дожидаясь своего освобождения?
Вопрос сохранял непреходящую актуальность не только для пластических искусств, но и для романтической культуры в целом. Уже после того, как она угасла, запоздалый ответ предложил Раич в том самом месте из «Ареты», где он назвал природу «мертвой». Творческую «мысль» или мудрость заменило у него смежное с нею Воображение, которое тоже одухотворяет свои произведения заемной небесной «жизнью» – но лишь для того, чтобы на постылой земле пробудить томительную память о рае:
Воображение – дитя,
Но если, крыла распустя,
В своем парении высоком
Оно проникнет в глубь небес
И там – в святилище чудес –
У самого истока жизни,
За гранью мертвенной отчизны,
Упившись жизнию, творит
По дивным образцам небесным,
Всегда высоким и прелестным,
И даст своим созданьям вид
Полуземной, полунебесный,
И душу свыше призовет,
И эту душу перельет
В свой образец полутелесный,
Полудуховный, – он пройдет
Из века в век, из рода в род,
На мир печальный навевая
Таинственную радость рая.
Перед нами неоплатоническая эстетика чисто средневекового типа, актуализированная романтическим сознанием. «Небесные образцы», привязанные автором к Раю, – это, конечно, извечные платоновские «идеи», обретающиеся, согласно Плотину, в творящем Уме как оформленном бытии Абсолюта (а согласно Августину и другим христианским преемникам неоплатонизма – в уме самого Создателя). «Подобно тому, – писал Эрвин Панофски, – как природная красота заключается для Плотина в просвечивании идеи через формируемую по ее образу материю, никогда, однако, не поддающуюся полному оформлению, так красота художественного произведения заключается в том, что в материю “посылается” идеальная форма и, преодолевая ее косность, как бы одушевляет или стремится одушевить ее» [331]. А вот параллель в «Арете»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




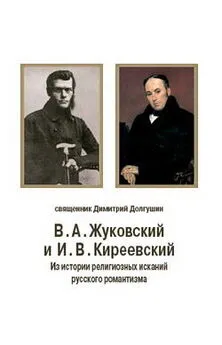
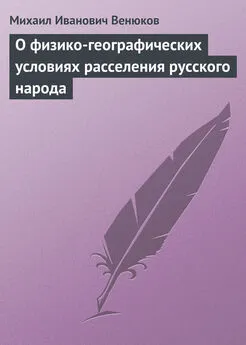
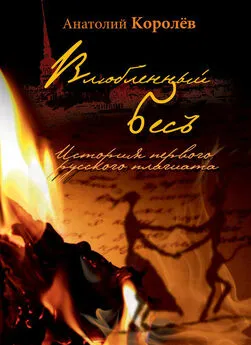
![Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/1143106/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd.webp)