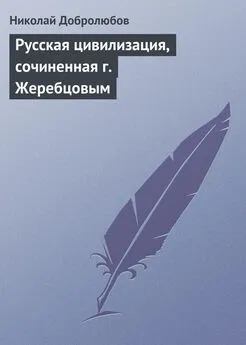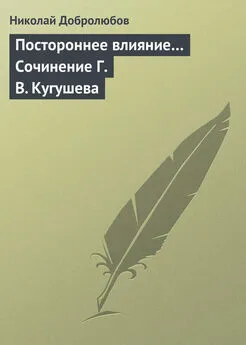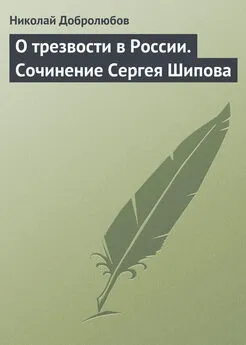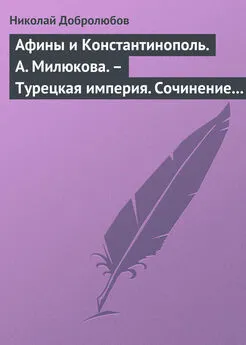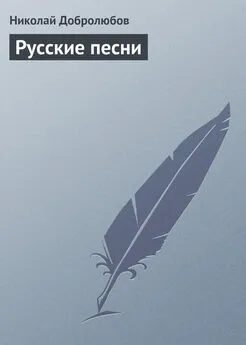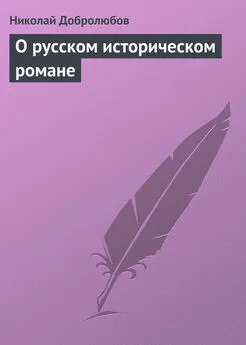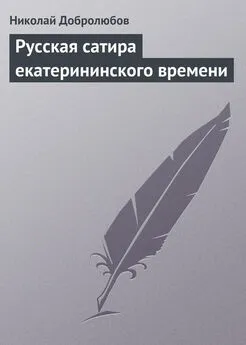Николай Добролюбов - Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым
- Название:Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Добролюбов - Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым краткое содержание
Н. А. Жеребцов – публицист славянофильской ориентации, крупный чиновник (в частности, служил вице-директором департамента в Министерстве государственных имуществ, виленским гражданским губернатором, был членом Совета министра внутренних дел). «Опыт истории цивилизации в России» привлек внимание Добролюбова как попытка систематического приложения славянофильских исторических взглядов к конкретному материалу, позволявшая наглядно продемонстрировать их антинаучный характер: произвольное противопоставление разных сторон исторического прогресса – духовной и социальной, односторонний подбор фактов, «подтягивание» их к концепции и т. п. Вместе с тем Добролюбов показал, что за славянофильской фразеологией скрываются аристократические амбиции и феодальные симпатии Жеребцова. Добролюбов чутко уловил усвоение славянофильства официальным сознанием, в рамках которого оно из оппозиционного идейного течения превращалось в расхожее охранительное умонастроение.
Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Следя далее за г. Жеребцовым, мы находим, что он предъявляет следующие положения. Для полного развития человека и целого народа необходимы, – говорит он, – хорошее знание предметов, уменье хорошо мыслить о них и любовь к общему благу. Таким образом, цивилизация состоит, по выражению г. Жеребцова, в том, чтобы каждый хорошо знал, хорошо мыслил и хорошо хотел. По нашему мнению, совершенство мышления зависит непременно от обилия и качества данных, находящихся в голове человека, и разделять эти две вещи довольно трудно, особенно когда понимать под знанием не поверхностное, внешнее сведение о факте, а внутреннее, серьезное проникновение им, – как и понимает сам г. Жеребцов. Но для него ничего не значит поставить мышление и знание в совершеннейшей отдельности друг от друга, – не только в отдельном человеке, но даже и в целом народе. По его мнению, есть народы, которые много знают, но рассуждают плохо, – и есть другие народы, которые знают мало, но зато рассуждают отлично. В образец последних г. Жеребцов, к немалому удивлению нашему, приводит – Англию! Он уверяет, что у англичан рассудочные способности очень развиты и действуют весьма правильно, – несмотря на недостаток знаний! «Это уж зависит от врожденного расположения народа к рассуждению» (raisonnement), – замечает он. Это объяснение показалось нам чрезвычайно похожим на слова свахи в «Женитьбе». Гоголя: «Что ж делать, это уж так ему бог дал, что ни скажет слово, то соврет. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть: такая уж на то воля божия!» Так и англичане несчастные: уж и сами не рады, а не могут, чтобы не рассуждать; такая уж на то воля божия!..
Мнение автора о недостатке знаний в Англии относится, впрочем, к низшему классу народа. В аристократии он признает достаточные познания. Но, по собственным понятиям г. Жеребцова, народу вовсе и не нужно знать больше того, что он знает и что нужно для исполнения им разных его работ. Так должен полагать г. Жеребцов, судя по тому, что он говорит о высшей степени знания, которую называет усвоением (assimilation), и о том, когда знание это бывает истинно полезным. Усвоенным знанием называет он то, которое не остается просто в памяти, а переходит в убеждение, в жизнь и ведет к дальнейшим выводам и открытиям. О пользе знания говорит он вот что: «Чтобы распространение знаний было полезно и благотворно, нужно следующее существенное условие: знания должны быть распределены в народе так, чтобы каждый мог всю массу своих знаний прилагать на деле, в сфере своих практических занятий, – и наоборот, чтобы всякий хорошо знал то, что может приложить с пользою для себя и для общества на практике». Мы, разумеется, не можем вполне согласиться с таким требованием, потому что из него может вытекать, например, вопрос: зачем мужику грамота, которой он не может ввести в круг своих практических занятий? или вопрос: зачем дворянину учиться географии, когда извозчики есть?.. и т. п. Вообще в разных определениях и мнениях г. Жеребцова видна крайняя незрелость мысли и шаткость его убеждений, происходящая, может быть, от непривычки к рассуждениям о предметах отвлеченных, а может быть – и от той же причины, по которой у г. Жеребцова англичане рассуждают так отлично… В настоящем случае мы находим, что он уж слишком увлекся мыслью о практической приложимости знаний, – опасаясь, вероятно, того, чтобы при большем развитии просвещения каждый не стал рассуждать больше, чем сколько ему дозволяет его звание и состояние. А между тем тот же г. Жеребцов в других местах выражает пренебрежение к практическим улучшениям и хлопочет почти исключительно о высоком развитии умственных и нравственных сил. С этой-то точки зрения он и хотел упрекнуть Англию, заимствовавши свой упрек у Гизо, который говорит, что сторона чисто интеллектуальная, развитие человека, – гораздо слабее в Англии, чем социальная сторона, развитие гражданина. Г-н Жеребцов не сообразил, что, избрав другую точку зрения, надобно уж и проводить ее иначе, и принимался повторять об Англии мысли Гизо. Но у Гизо ясно отделено интеллектуальное и социальное развитие; а г. Жеребцов скомкал это в одно – распространение знаний, да еще сказал, что приложимость (то есть развитие социальное) принадлежит высшей степени знания (то есть интеллектуального); а потом принялся упрекать Англию в недостатке знаний. В путанице, образовавшейся от смешения чужих идей с народным воззрением {16}, г. Жеребцов и не заметил, что если в чем нельзя упрекать Англию, так это именно в недостатке знаний, приложимых в практической деятельности.
Но этим г. Жеребцов не довольствуется. Он взводит на Англию еще обвинение в недостатке любви к общему благу, и здесь опять перефразируя мысли Гизо об интеллектуальном развитии и скрашивая их милыми возгласами о самоотвержении, любви ко врагам и т. п. В объяснение того, отчего в Англии так сильна нелюбовь к общему благу, г. Жеребцов приводит две причины. Первая состоит в недостатке благочестия истинно христианского и евангельского, которое мы не беремся ни оправдывать, ни объяснять. Вторая причина заключается «в превосходстве положения, занимаемого страною, и в ее политической силе, препятствующей в ней развитию чувств смирения и братства». Силою каких умозаключений дошел г. Жеребцов до подобных мыслей, мы опять объяснить не можем. По всей вероятности, русское народное воззрение много участвовало в его изумительной логике.
Продолжая свое обозрение, г. Жеребцов переходит к Франции. К этой стране он очень не благоволит. Знания здесь распространены больше, чем в Англии; но зато степень усвоения их меньше. (А уж и в Англии-то г. Жеребцов находит мало его в народе.) Притом знания распределены не так, как бы хотелось г. Жеребцову. Люди приобретают там много знаний, которых не к чему приложить; вследствие этого многие пускаются в дурные разговоры или в злостные (mechant) писания. Оттого часто и революции происходят во Франции. Этому помогает еще и неосновательность французского рассудка, происходящая оттого, что он знает много лишнего и пускается рассуждать о предметах чуждых ему, как будто о самых близких. Но особенно гибельно для Франции отсутствие в ней любви к общему благу. При мысли об этом г. Жеребцов приходит даже в не свойственное ему раздражение и сначала поражает последние годы прошлого столетия, называя их злополучными (nefastes), затем говорит, что «напрасно Бурбоны, по возвращении своем, хотели действовать с французами как с народом, не совсем еще потерявшим чувства веры и благочестия, и что напрасно хотели вывести французов на дорогу нравственности, бывшей для них противною»… Г-н Жеребцов так вооружен против Франции, что даже и в теперешнем ее состоянии не хочет над нею сжалиться и признать ее цивилизованною, говоря, что в ней слишком развит личный интерес. В этом случае г. Жеребцов строже, чем сам Наполеон III, еще недавно признавший торжественно, что французский народ есть «peuple eminemment catholique, monarchique et soldat» [3], следовательно весьма цивилизованный. Ни одного из этих качеств г. Жеребцов не признает во французах и вследствие того ставит их весьма низко в отношении к цивилизации. За одно только хвалит их наш мыслитель – за патриотизм. «Одно нравственное чувство, – говорит он, – сохранившееся в этой нации, к чести французов, – есть общее стремление к славе своей страны…» Не мешало бы прибавить, что это чувство особенно сильно развито в гасконцах {17}.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: