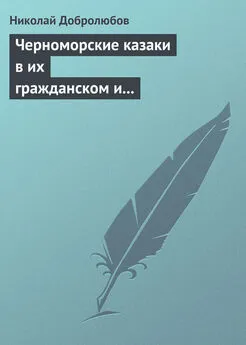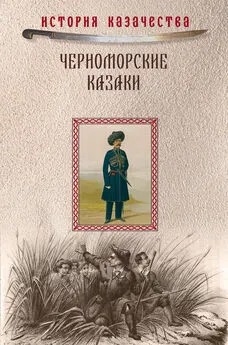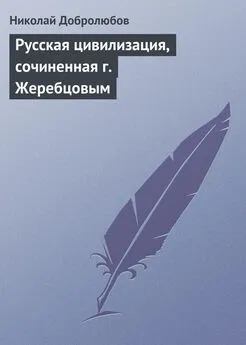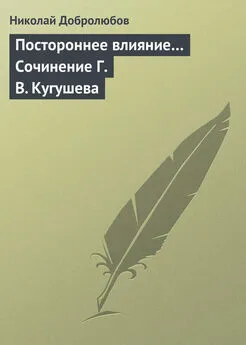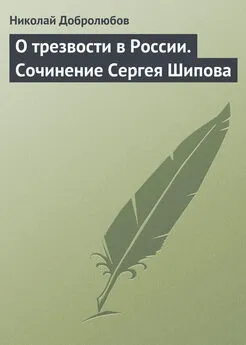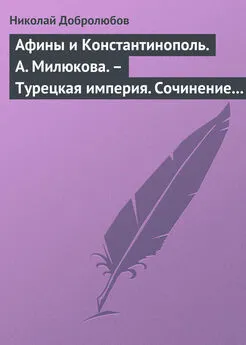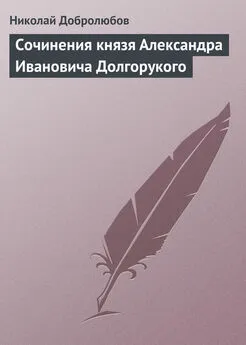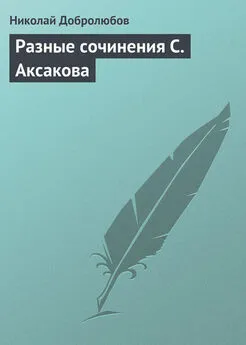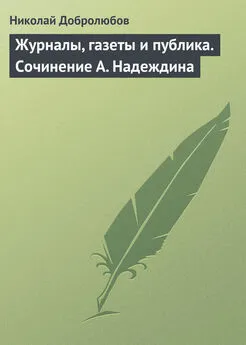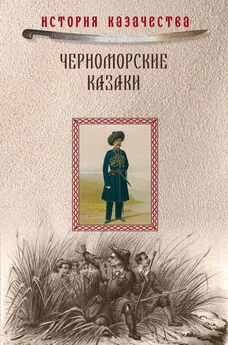Николай Добролюбов - Черноморские казаки в их гражданском и военном быту… Уральцы… Сочинение Иоасафа Железнова
- Название:Черноморские казаки в их гражданском и военном быту… Уральцы… Сочинение Иоасафа Железнова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Добролюбов - Черноморские казаки в их гражданском и военном быту… Уральцы… Сочинение Иоасафа Железнова краткое содержание
Рецензия Добролюбова – один из моментов в формировании исторического взгляда революционных демократов на крестьянскую общину как на социальный институт, черты которого могут быть сохранены и утверждены в будущем общественном устройстве. Добролюбовское «народознание» подкрепляло тем самым философскую и экономическую разработку этого вопроса Н. Г. Чернышевским. В отличие от других рецензентов этих книг Добролюбов подчеркивает классовое расслоение казачества, приведшее его к упадку, и вступает в полемику с Железновым о существовании «духа общины» в настоящем быту русского крестьянина.
Черноморские казаки в их гражданском и военном быту… Уральцы… Сочинение Иоасафа Железнова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы коснулись только происхождения черноморского войска и его земельного уряда, так как казак столько же воин, сколько и земледелец. Но книга г. Ивана Попки далеко не ограничивается этими двумя статьями. В ней можно найти множество весьма интересных топографических, статистических и этнографических сведений об описываемом им крае и его обитателях.
Обратимся теперь к уральцам. Книга г. Железнова, исключая двух последних глав, состоит из легких очерков, в которых рисуется быт уральских казаков: их домашняя жизнь и промышленные занятия, их предания, поверья, военное устройство, отношения к соседям и т. п. Чтобы придать более интереса своим очеркам, автор выводит иногда на сцену замечательные в каком-нибудь отношении казацкие личности из времен минувших, рассказывает анекдоты и разные случаи из жизни описываемого им общества, которые имеют, впрочем, более нравоописательный и романический интерес, нежели исторический. Последние две главы имеют заглавия: «Критическая статья на «Историю пугачевского бунта»«и «Мысли казака о казачестве». В первой из них автор старается опровергнуть мысль Пушкина, что причиною пугачевского бунта были яицкие казаки и что Пугачев был только орудием их. [3]Теми же самыми документами, которые приведены у Пушкина в приложениях к «Истории пугачевского бунта», г. Железнов доказывает, что яицкие казаки не могли выдумать самозванца, а что сам Пугачев хитростию обольстил простых и невежественных казаков, воспользовавшись волнением, происходившим тогда в яицком войске вследствие притеснений, которые терпели казаки от своих начальников и старшин. Г-н Железнов обличает Пушкина даже в противоречии: он говорит, что Пугачев является в «Истории» Пушкина то хитрецом, то простяком и что тот же самый Пугачев представляется у него совсем в ином свете в «Капитанской дочке», особенно где он рассказывает Гриневу сказку об орле и вороне. В последней главе «Мысли казака о казачестве» автор восстает против тех, которые хлопочут об устройстве новых казацких общин, или, как он называет таких людей, против прожектеров. Он говорит, что казак – лицо типическое, оригинальное, самобытное, созданное природою и временем, а не возникшее вследствие кабинетных проектов, и что общин казачьих нельзя составлять искусственным образом, во всякое время. Подобные проекты о разведении казаков автор сравнивает с проектами об искусственном разведении цыплят, севрюг и форелей. Он говорит, что мужика нельзя переделать в казака, что он способен быть только солдатом; а между солдатом и казаком большая разница. Крестьянин, как скоро сделался солдатом, – уже более не земледелец: он бросает плуг и поступает на полное казенное содержание. Казна кормит и одевает не только его самого, но даже его жену и детей, если ему вздумается жениться. Весь мир заключается для него в роте, где он служит, в казармах и лагерях, где он живет. Дело солдата – знать военные артикулы, и больше ничего. Совсем иное дело – дело казака. Он получает от казны паек только во время похода; во всякое же другое время казне нет <���до него> никакого дела, а еще менее до его семейства; казак должен иметь свою собственную одежду, вооружение, лошадь и пр. Неурожай, засуха, скотский падеж озабочивают его столько же, как и всякого земледельца. От крестьянина, перебивающегося с куска на кусок, нельзя требовать, чтобы он имел свой собственный гвардейский мундир и чтобы он, состоя на службе, пропитывал свою семью; а еще труднее, говорит автор, «вдохнуть в него тот благотворный дух общины, дух братства и товарищества, дух, который присущ каждому природному казаку, дух, без которого нет и не может быть общества».
Мы вполне согласны с автором, что из крестьянина трудно сделать отъявленного храбреца, каков настоящий казак, который с молоком матери всасывает в себя воинскую кровь и чуть-чуть не от самой колыбели готовится к боевой жизни: разведение таких храбрецов искусственным способом действительно походило бы на искусственное разведение цыплят и форелей, пожалуй даже хуже. Казака в этом смысле действительно могло создать только время и обстоятельства, подобно тому как на Западе время и обстоятельства создали рыцарей. Но рыцарство, порождение обстоятельств, должно было исчезнуть вместе с обстоятельствами, вызвавшими его, и мы видим, что рыцарь действительно сделался теперь анахронизмом в Западной Европе. Этот же удел ожидает и нашего казака. Уже и теперь заметно ослабевает у нас дух казачества; но он все еще находит для себя некоторое подкрепление, своего рода пищу, в стычках с пограничными народами. Но ведь не вечно люди будут враждовать между собою: когда-нибудь поймут же они, что мир лучше брани и что война – признак еще не совсем исчезнувшей первобытной грубости общественных нравов, неразвитости понятий об общежитии, атрибут того времени, когда право сильного играет главную роль в судьбе народов. Будет время, когда казачество сделается тоже анахронизмом на Руси. И теперь уже мы представляем первоначального казака не иначе как олицетворением необузданного удальства, свойственного только временам варварским и являющегося вследствие избытка юных, еще нетронутых сил, которые не знают для себя иного исхода, кроме войны и неудержимого разгула. Это удальство, в свое время считавшееся доблестью, теперь кажется нам смешным и с нравственной, и с юридической, и даже с экономической точки зрения. Если оно занимает нас, то разве только как любопытный факт из времен давно минувших. Теперь, благодаря успехам человеческого просвещения и цивилизации, мы живем покойнее в своей среде и не имеем уже такой нужды в бессменных ратоборцах, какую имели во времена былые. Зачем же воскрешать тех, чья пора миновала, и вызывать их на постепенно зарастающую и пустеющую арену?..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: