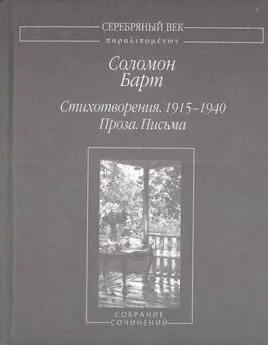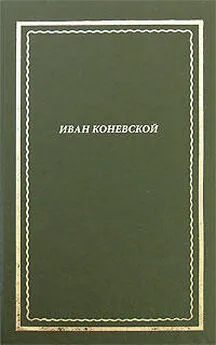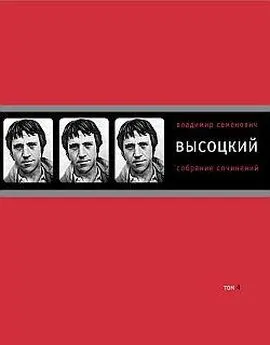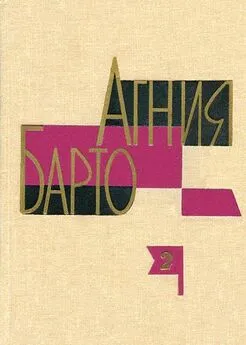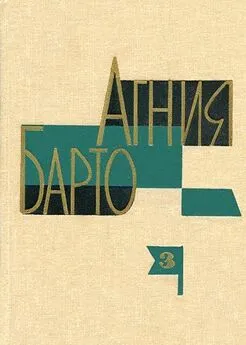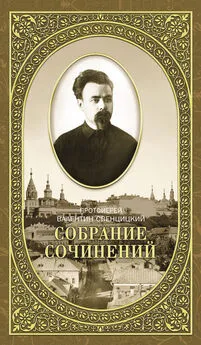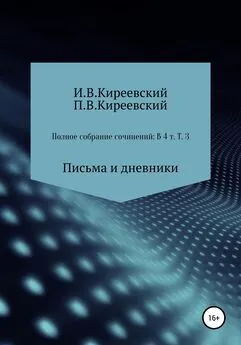Соломон Барт - Стихотворения. 1915-1940 Проза. Письма Собрание сочинений
- Название:Стихотворения. 1915-1940 Проза. Письма Собрание сочинений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей Publishers
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9796-0126-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Соломон Барт - Стихотворения. 1915-1940 Проза. Письма Собрание сочинений краткое содержание
Среди поэтов Серебряного века есть забытые почти намеренно. Таким поэтом был Соломон Веньяминович Копельман, в первой публикации (1915) выбравший псевдоним «С. Барт». Первый сборник Барта — единственный, изданный в России, — известен в одном экземпляре. Позже Барт обосновался в эмиграции, в стране, неблагоприятной для русской поэзии, — Польше. В Берлине и в Варшаве вышли еще четыре его книги. В 1941 году поэт погиб в Варшавском гетто. Более полувека должно было пройти, чтобы в Стэнфордском университете вышло первое собрание стихотворений Барта. Книга стала библиографической редкостью, а факты и материалы продолжали копиться. В предлагаемом читателю издании собрано всё, что дает право считать Соломона Барта одним из значительнейших русских поэтов Восточной Европы.
Стихотворения. 1915-1940 Проза. Письма Собрание сочинений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот он целует ее в ладонь… уже соприкоснулись их колени… Но еще глаза не сказали всего, не было еще всё предрешающего взгляда, еще не поздно… еще…
Помнит ли он мгновение, один лишь взгляд? Помнит ли он его? Одно только мгновение и нет уже возврата. Еще не распутаны ковы прошлого: воспоминания, обеты, обязанности. Но в одно это мгновение, в одном движении глаз былое стало пережитком, наскучившей книгой, бутафорским хламом.
Такова власть новой страстью пораженной, новым огнем колдующей плоти. Ибо непостижима тайна пола, в каждом из нас непостижима.
Но это мгновение… За ним последовали иные — что воплощали они, в чем воплотились? — всегда новые, превосходящие все откровения бытия, всегда неуловимые, непостижимые. Он помнил эти мгновения, взращенные в нем годами вопрошания, мучительного, безответного.
Как бы тело ни говорило, оно немотствует, когда вопрошает душа, оплетающая себя тончайшим кружевом мистического, почти религиозного вожделения.
В нескончаемости веков, за пределами всего, что было человеком и от человека, на иной планете, в ином существовании — память об этих мгновениях воскресит в нем очарования земли — и кто знает, захочет ли он иных? — воскресит роковую, недоступную мысли, самую мучительную из загадок бытия, которой не вместить было ни в слове, ни в песни, ни в кощунственном взлете крыл сладострастия — загадку, для которой нет и не будет никогда ни развязки, ни наименования, и которую, очерченную кольцом сладчайшего яда измен и предательств, на земле так немощно обозначили словом — любовь…
Автомобиль, свернув с дороги, выехал на поляну. Сейчас же вслед прибежал второй.
7 часов утра. Золото-зеленое сверкание. Одетые солнечным жаром сосны тяжело дышат, распыляя смоляной дух. Два дуэлянта. Четыре секунданта. Ленц отмеривает пятьдесят шагов. Заряжают пистолеты. Кто-то седьмой, должно быть врач, прохаживается по поляне.
СТАТЬИ
«Приятие мира» [1] Л. Гомолицкий «Дуновение» (стихи). Издано «Литературным Содружеством» на ротаторе в количестве 25 экземпляров. 1932 г. Варшава.
Поэта коснулось «дуновение» высокой тайны — тайны преображения.
Взаимоотношения человека и космоса так многолики и загадочны, что невозможно с полной убежденностью утверждать, в самом ли человеке источник его преображения или приходит оно извне. Гомолицкий склоняется к второй разгадке — приобщения человека к космическим тайнам, т е. религиозно-философскому просветлению.
В религиозно-философских размышлениях и настроениях, которыми исполнены почти все стихи поэта, он находит свой путь к приятию мира. Но путь этот ведет через самопознание и самообличение. Если в мире он приемлет все ужасы и страдания жизни, то в самом себе он приемлет лишь примиряющее и всеутверждающее начало. К своему несовершенству, к греховному началу в себе он беспощаден. Я назвал бы его приверженцем внутреннего (имманентного) дуализма.
Поэт говорит:
Постель казалась мне греховно нежной —
плоть вероломную я к доскам приучал,
кладя на стол свой отдых неизбежный,
и на спине, как мертвый, застывал.
Я спал, и сон был иногда спокоен,
но чаще влажно воспален и жгуч.
А надо мной стоял крылатый воин,
в руке сжимая обнаженный луч.
Но стоит поэту соприкоснуться с внешним миром, чтобы стихи его зазвучали по-иному и чтобы в них сказались радость бытия, нежная, проникновенная:
Опять вкушаешь песни золотые,
Бог с голубой прохладою зрачков,
как будто я влюблен в тебя впервые,
а за спиной не тысячи веков.
И в последнем отчаянье есть радость, и гибель не страшна тому, кто в своей любви к миру претворил в красоту и мрак, и ненастье, и самую смерть:
Ворча, раздавит лапою тяжелой
чудовище автобуса тупое —
на камнях, сморщенных его ленивым брюхом…
Так кончится, что было душной школой…
по классам жизни заточенным слухом,
но помнящим мучительно иное.
Лишь каменные тихие святые
и голуби, слетающие к ним,
да вот еще любви комочек снежный
напрасно длят часы мои пустые.
Но будет прав мой тесный, неизбежный
последний час — гудок, бензинный дым,
сухой асфальт и кто-то нежный-нежный.
Любовь и смерть — лучшие краски на палитре Творца. Чтобы постичь безмерное сияние любовного пути, должно взглянуть на него из-под сени гробового входа. Но любовные страдания в узком смысле этого слова чужды поэту. Его любовь разделена. К одиночеству и раздумью о смерти толкает его не любовная мука, а притупленное, приглушенное повседневностью чувство жизни. В созерцании смерти на кладбище поэт ищет и находит оправдание тому обманчивому и мимолетному, что в «кулисах стен» казалось столь скучным и отвратным. Как проникновенно звучит:
Жизнь пролетает точно тень от птицы.
Спеши исполнить всё, пока ты жив.
Это стихотворение («В лесу крестов…») о смерти, несмотря на отсутствие в нем трагически вдохновенной антитезы — вообще лучшее в сборнике. Поэт достиг в нем большого мастерства.
Символом примирения является Ева — Ева-женщина, прельстительная и жаждущая плоть, мистически перевоплощенная Евой-женой и матерью. Любовь возносится на степень долга, идеальной обязанности.
Как мало надо нам с тобою, Ева.
Без гнева жить и трепетать потом,
когда наш дом от крыши до порога
наполнит бога маленького крик —
его язык еще невнятный людям,
и позабудем для него мы свой —
земной язык, отчаяньем сожженный
и искушенный внутренним огнем.
Для сложных переживаний в большинстве стихов найдены поэтом свои образы — свой язык. Всякое истинное искание в искусстве отдает косноязычием. Для обычных переживаний имеются под рукой готовые штампы, гладкие формы, гладкие слова. Временами тяжелый, перегруженный стиль Гомолицкого свидетельствует о напряженной борьбе поэта с собой и с готовыми образцами.
В книжку Гомолицкого надо вчитаться, она написана не для любителей поэзии, а для любящих ее.
Социальный заказ и тема о смерти
Смерть всюду, всегда, неизменно.
Неразлучна с ней жизнь золотая.
Смертью дышет небесная твердь
И всё, что живет, что трепещет,
на заре расцветая…
В статье г. Бранда «О бунте созидающем», напечатанной в № 90 (20.IV. с. г.) «Молвы», я усмотрел некоторую логическую непоследовательность.
Г. Бранд пишет:
«Нельзя автору указывать, о чем он должен писать и как он должен писать. Нельзя требовать восхваления того, что автору противно, или порицания того, что ему любо.
Социальный заказ выхолащивает искусство, уродует его, делает бледным, потухшим, бесплодным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: