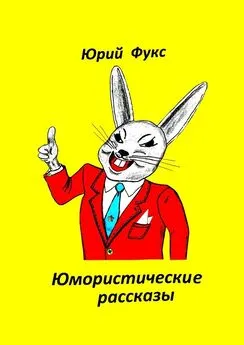Юрий Бондарев - Поиск истины [Авторский сборник]
- Название:Поиск истины [Авторский сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1979
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Бондарев - Поиск истины [Авторский сборник] краткое содержание
Книга выходит вторым, дополненным изданием.
Поиск истины [Авторский сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Расскажите подробнее о вашем новом романе.
— Эта книга — о Сталинграде и в то же время не о Сталинграде. Как я уже говорил, действие происходит в декабре 1942 года в течение трех дней. Любовь и война, молодость и опыт, добро и жестокость, мужество и страдания — вот что в этой книге волновало меня. В ней я пытаюсь сказать о войне то, что не успел сказать в других своих книгах.
Время — жизнь — писатель [3] «Литературная газета», № 44, 1 ноября 1972 г.
— Юрий Васильевич, каково, на ваш взгляд, значение жизненной биографии в творчестве писателя, в его писательской судьбе?
Ю. Бондарев. Совершенно убежден, что никогда писатель не сделает даже маломальского открытия, если у него нет так называемого запаса биографии. Без художественных же открытий, без того, что принято называть «своим», пишущий — еще не писатель.
Конечно, есть литераторы, характер дарования которых сфера фантастики, например. Тут, пожалуй, больше полезны знания научные, технические (правда, они необходимы во всех случаях). Но если говорить о литературе, связанной с отображением реальной жизни, то здесь без сюжетной, насыщенной событиями и чувствами биографии ничего интересного не создашь. Творчество любого писателя своими истоками непременно уходит в глубины глубин прожитого, а книга истинного художника есть не что иное, как своеобразное разматывание разных биографий — в первую голову своей и хорошо знакомых ему людей, то есть, по сути, биографий, в значительной мере ставших его собственным душевным опытом.
Жизнь писателя неизменно сопряжена с социальными и нравственными проблемами, которые мучают его постоянно и ищут выход почти в каждом произведении. Классический пример тому — Л. Толстой и Ф. Достоевский. Два великих романа «Война и мир» и «Братья Карамазовы» — это раздумья огромных художников о смысле жизни и смерти, о качествах добра и зла, главным образом о поисках экзистенции веры и нравственности, чему подчинена была вся жизнь этих пишущих истину титанов мысли. Независимо от того, что «Война и мир» роман исторический и отделен от эпохи Толстого большим пластом времени, в нем — вся этическая биография писателя. Ведь поиски Пьером смысла жизни, его приход к счастливому определению и приход к истине через страдания князя Андрея — это пути самого Толстого, от проблем Болконского в своей офицерской молодости до проблем Пьера в зрелые годы. Было бы непростительной ошибкой отождествлять героев произведений с автором. Но это особый вопрос.
Короче говоря, если писатель нагружен жизненным опытом, как пчела медом, ему есть о чем писать, и его желание писать не игра интеллектуала, а необходимость приблизить людей к собственному познанию…
— Но не отодвигает ли жизненная биография писателя на задний план роль художнической фантазии?
Ю. Бондарев. Нисколько! Все, о чем сейчас было мною сказано, — лишь одно из основных слагаемых творческой индивидуальности. Одно! А все — слагаемые (не ловите меня на слове, я отнюдь не расчленяю их число механически). Суммирую своеобразный «триумвират». Это жизненный опыт плюс душевный опыт, плюс воображение писателя. Когда этот счастливый «триумвират» расстраивается, автора каждый раз должна постигнуть неудача.
Но коль речь зашла особо о художественной фантазии, то хочу подчеркнуть, что без возбуждающего огонька воображения произведение обречено на бескрылость, приземленность.
— Как все это происходит у вас?
Ю. Бондарев. Для моего поколения самым высоким учителем была война, и вся биография моих сверстников пронизана войной…
— Юрий Васильевич, некоторые критики считают вас военным писателем. Вы с этим не согласны? Почему?
Ю. Бондарев. Несколько раз я уже отвечал на этот вопрос, вернее, писал в критических статьях. В некотором роде я тоже отношу себя к критикам, и если бы не занимался прозой, то с удовольствием написал бы книгу или, как говорят, исследование, обратившись к средствам выражения Льва Толстого, Достоевского и Чехова — к этим писателям я не отношусь спокойно. Но вы задали иной вопрос. Некое разделение литературы, так сказать, по зональности унижает и принижает саму литературу. Так же как и педантичное, раз и навсегда установленное распределение писателей по темам — «деревенщики», «военные писатели», «бытовые писатели» и т. д. Если вспомнить прошлое, великий расцвет русского реализма, то в какой порядок мы поставили бы Льва Толстого с его непревзойденной хроникой «Война и мир», с его великолепными «Севастопольскими рассказами», с прекраснейшим «Хаджи-Муратом»? В порядок «баталистов»? И какое тематическое место мы отвели бы Чехову с его «бытовыми» рассказами и пьесами? Я мог бы привести бесконечное множество и других примеров, но вы, думаю, и без того понимаете мою мысль.
Пока существует искусство, главной и вечной темой его будет человек. Искусство — средство, человек — цель. Человек, познавший себя через искусство, познает многое.
Не кажется ли вам, что распределение писателей по темам удобно и спокойно некоторым нашим критикам, желающим построить в литературе нерушимую и несложную конструкцию?
— Конечно, писателя нельзя «привязать» к той или иной теме, если он не дает для этого основания. Однако вернемся к разговору о роли биографии в судьбе художника.
Ю. Бондарев. Да, вся моя биография и биография моих сверстников пронизана войной… Что прочнее всего врезалось в память из тех лет? Баталии? Нет, слава богу, они не заслонили людей. Знаете, что пронзительнее и ярче всего я помню? Лица, бесконечная череда лиц и голоса людей. На фронте солдат и офицер переднего края раскрывались как человеческая личность чрезвычайно быстро и чрезвычайно полно. Чтобы узнать, скажем, нового командира орудия, необязательно было съесть с ним пуд соли, а достаточно было раз провести с ним орудие через минное поле к какой-нибудь высоте — и он вам становился ясен без громких слов. Каждый испытывался опасностью, действием, способностью преодолеть самого себя. Война обостренно и предельно обнажает характер человека. Я думаю, что для нашего поколения это была ни с чем не сравнимая школа. И если иные философы говорят, что истина это парадокс, то война явилась для меня самым умным и самым безжалостным учителем жизни. И это абсолют.
На фронте встречались люди разные, непохожие друг на друга — честолюбивые и лишенные тщеславия, добрые и жестокие, отчаянные острословы и угрюмо замкнутые в себе, пожилые отцы семейства и совсем мальчики, мечтавшие о подвиге, — словом, это были люди индивидуального склада, объединенные одной судьбой.
Все это: лица, голоса, конфликты, бои, потери, победы, высотки, танковые атаки — аккумулировалось в памяти (а память на войне восприимчива необыкновенно), — и это определило во многом мой жизненный опыт. Мое эмоциональное отношение к людям и событиям, их та или иная оценка составили опыт душевный. И плюс к этому воображение, которое рождается от соединения опыта жизненного и душевного. Воображение — это легкие крылья сюжета, которые не дают мысли романа камнем упасть на землю. Не мне судить о том, как все это выявилось в моих произведениях, это, разумеется, дело критики и читателей. Мне только хочется сказать, что позицию натуралистической бескрылости, угрюмого и тупого приземления героя не приемлю никак.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Юрий Бондарев - Поиск истины [Авторский сборник]](/books/1058778/yurij-bondarev-poisk-istiny-avtorskij-sbornik.webp)

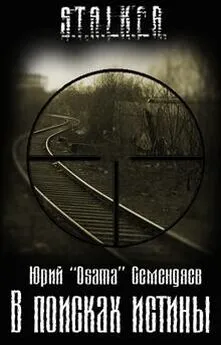
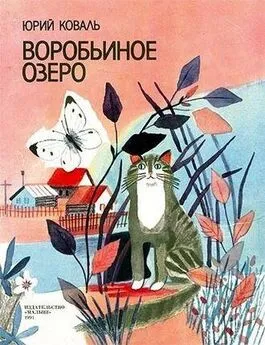
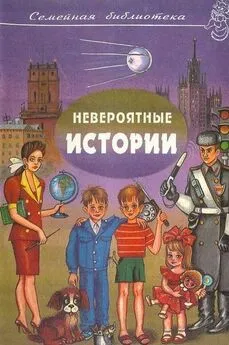
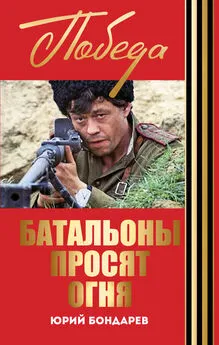
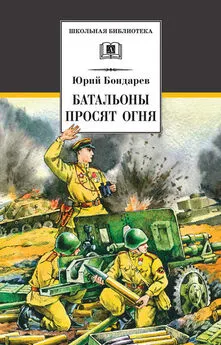
![Юрий Карабчиевский - Тоска по дому [Авторский сборник]](/books/1076559/yurij-karabchievskij-toska-po-domu-avtorskij-sborni.webp)
![Юрий Тупицын - На восходе солнца [Авторский сборник]](/books/1079195/yurij-tupicyn-na-voshode-solnca-avtorskij-sbornik.webp)