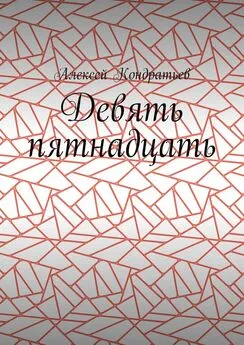Алексей Иванов - Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями
- Название:Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9346-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Иванов - Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями краткое содержание
Один из самых известных и ярких прозаиков нашего времени, выпустивший в 2010 году на Первом канале совместно с Леонидом Парфеновым документальный фильм «Хребет России», автор экранизированного романа «Географ глобус пропил», бестселлеров «Тобол», «Пищеблок», «Сердце пармы» и многих других, очень серьезно подходит к разговору со своими многочисленными читателями.
Множество порой неудобных, необычных, острых и даже провокационных вопросов дали возможность высказаться и самому автору, и показали очень интересный срез тем, волнующих нашего соотечественника. Сам Алексей Иванов четко определяет иерархию своих интересов и сфер влияния: «Где начинаются разговоры о политике, тотчас кончаются разговоры о культуре. А писатель — все-таки социальный агент культуры, а не политики».
Эта динамичная и очень живая книга привлечет не только поклонников автора, но и всех тех, кому интересно, чем и как живет сегодня страна и ее обитатели.
Текст публикуется в авторской редакции.
Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прежде всего, если возможно, я хотела бы уточнить определения, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке и у нас не возникло непонимания.
Понятие «постмодернизм» вы принципиально используете только для российской действительности, а «постмодерн» для мировой культуры, разграничивая их тем самым по территориальному признаку (или тут так совпало)? Дело в том, что я их понимаю как два связанных понятия, в двух словах: состояние культуры и совокупность явлений в искусстве соответственно. (Явления, в свою очередь, уже влекут за собой приёмы, техники и т. п.) В связи с этим и тот и другой могут присутствовать как в российской, так и в мировой культуре.
Исходя из моих размышлений, в дальнейших вопросах я буду использовать «постмодернизм», где подразумевать именно явления, влекущие за собой использование тех или иных приемов, техник и т. п.
Далее, если для вас «Тобол» — своего рода экспериментальная площадка «постмодерна», то находитесь ли вы в каких-либо взаимоотношениях с одной из основных (ну вроде так принято, что основных) концепций постмодернизма — бартовской «смерти автора»?
На мой взгляд, во всём вашем творчестве всегда чётко прослеживается авторский замысел и ни о какой «смерти автора» не может быть и речи. В таком случае в «Тоболе» у вас тоже изначально было наше традиционное «что хотел сказать автор», а для реализации авторской интенции вы уже и стали использовать приемы постмодернизма? Либо же, наоборот, вы решили поэкспериментировать с постмодернистскими приёмами, а в ходе работы «оказалось», что традиции сохраняются (в том числе автор не умер), и для вас это явилось неким открытием?
Сначала про термины. Внятного научного определения для постмодернизма (постмодерна) нет, поэтому я предпочитаю, так сказать, профанное определение. Оно упрощает смысл, но зато и проясняет его.
Постмодернизм (постмодерн) — это синтез всего. Жанров, парадигм, тем, теорий, стилистик и так далее. Один из вариантов этого синтеза — «текст из текстов». Например, в «Метели» Сорокина синтезированы мотивы метели из всей русской литературы. Есть в этом произведении «автор» или нет? Появилась бы «Метель» Сорокина, если бы не было метелей у Пушкина, Тургенева, Толстого, Куприна, Бунина? Вот в этом смысле «автора» и нет. Об этом и говорил Барт.
Но постмодерн отличается от постмодернизма качеством синтеза. Тут я перейду на пример из кино, чтобы было понятнее.
Возьмём сериал «Ходячие мертвецы». Это синтез зомби-апокалипсиса и психологического реализма. Это всё равно что совместить сотовый телефон и батарею парового отопления. Если говорить обобщённо, то «Ходячие» — синтез категории низкого (треш) и категории высокого (психологизм). Для чего это нужно? Для исследования реальности.
Дело в том, что жанр зомби-апокалипсиса — это современная утопия, а вовсе не антиутопия. Мир зомби-апокалипсиса — рай для подростков (точнее, для инфантилов, какими мы стали в обществе потребления): работать не надо; еды и оружия вдоволь; враги — вроде бы люди, но очень противные, и убивать их легко и приятно, потому что движутся они медленно; ответственности нет; воля вольная; побеждает не самый сильный, а самый ловкий и так далее. Погружая в эту утопию зонд психологизма, авторы изучают те поведенческие мотивы, которые никогда не позволят утопии превратиться в реальность. Так устроено это произведение. Главное в нём — оно строится на синтезе категорий.
Современное искусство, основанное на синтезе категорий, я и называю постмодерном. Ключевые его качества — развитие (а не отрицание) традиции и гуманистическое звучание (а не этический релятивизм). Постмодерн позволяет сохранять всё то, что было в традиции, — и авторство, и «классический» замысел, и сюжет, и характеры героев, и просветительскую суть, и вообще всё.
В России же всё по-своему.
В современной российской культуре к синтезу предлагаются советские (иногда — русские) концепты и современные технологии. Яснее это в кино, когда берётся что-то советское и умножается на современные технологии («Экипаж» — советский сюжет; «Панфиловцы» — советский миф; «Викинг» — советская идеологичность). В общем, современный российский формат — это синтез не категорий, а феноменов. Поэтому я называю его не постмодерном, а постмодернизмом. И постмодернизм не может исследовать жизнь, как врач не может сам себе сделать операцию на сердце.
Так что «Тобол» лежит на линии постмодерна, а не постмодернизма. И я не выбирал формат. Заявка на этот формат — ещё в «Сердце пармы». Просто мне нравится писать так, как предполагает моё историческое время, но я не хочу терять ничего хорошего из того, что было придумано прежде.
Мировой постмодерн — синтез категорий. Российский постмодернизм — синтез феноменов. Постмодерн позволяет продолжать традицию и познавать мир. Постмодернизм — нет. Не те инструменты, хотя тот же синтез
Как вы относитесь к творчеству Ивана Ефремова?
В детстве Иван Ефремов был для меня писателем номер один. Самой дорогой мне книгой в моей библиотеке было первое издание «Туманности Андромеды», которое мне подарил знакомый дяденька, потому что я брал у него эту книгу почитать раз сто и ему проще было отдать её мне насовсем.
Повзрослев, я более трезво оценил литературные достоинства Ефремова. Мне стало понятно, что его эпичность порой переходит в пафос, а люди у него одномерны. Но это не помешало мне сохранить любовь к его творчеству.
Сейчас его книги я не перечитываю (и вряд ли буду), но если хочу вновь ощутить ту пронзительную романтику, которая так воодушевляла в детстве, то вспоминаю образы Ефремова. Для меня многие вещи — например, Гоби, Тускарора, Пунт или «Катти Сарк» — навсегда останутся «ефремовскими». В своей жизни я много раз возвращался к тому, о чём впервые я прочитал у Ефремова. Скажем, когда занимался уральскими алмазниками, вспоминал «Алмазную трубу». А над подземным городом Каргалы в Оренбуржье меня прямо дрожь пробрала, когда я вспомнил, что читал о нём в «Путями старых горняков». Ну и, конечно, звёздное небо — всегда то, в котором погиб «Парус», затерялся спиралодиск и горит невидимая Железная звезда — «ужас астролётчиков». Сейчас в моей библиотеке есть книги о Ефремове — жезээловская и воспоминания Петра Чудинова.
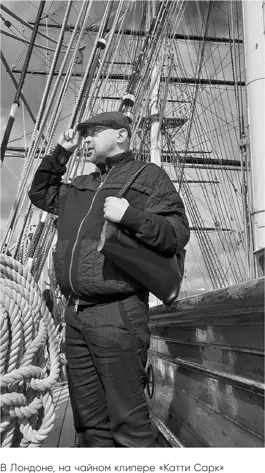
Хотелось бы узнать ваше мнение о фильме «Ермак» Краснопольского — Ускова. Понравился ли он вам и чем? Удалось ли авторам фильма раскрыть, почему имя Ермака так значимо для Сибири?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: