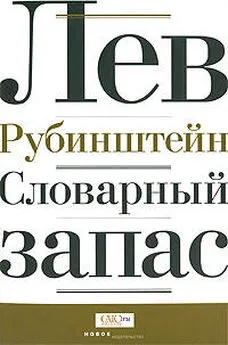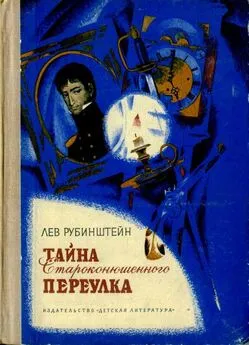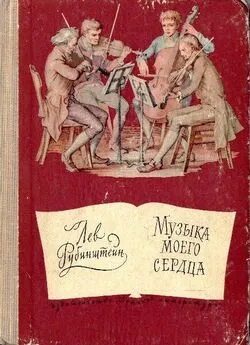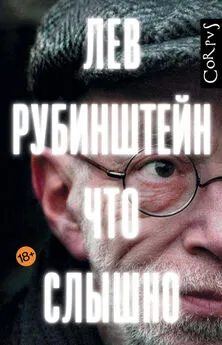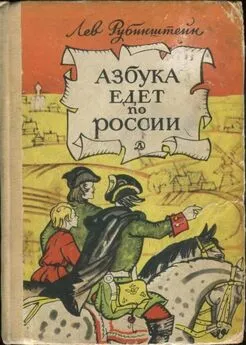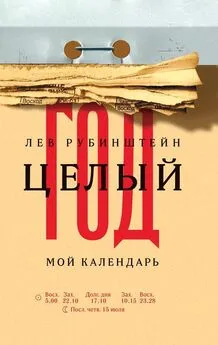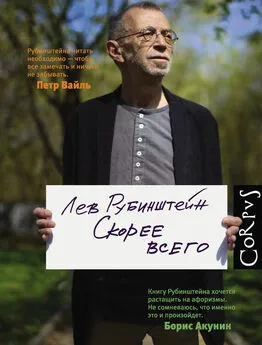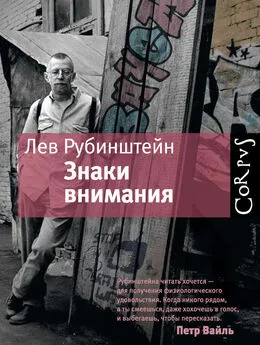Лев Рубинштейн - Кладбище с вайфаем
- Название:Кладбище с вайфаем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2020
- ISBN:9785444814123
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Рубинштейн - Кладбище с вайфаем краткое содержание
Кладбище с вайфаем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
* * *
Вот я где-то в новостях прочитал, что где-то прошел “марш в честь парада”. Потом, видимо, состоится, шествие в честь марша в честь парада. Потом — народные гулянья в честь шествия в честь марша в честь парада. Ну а когда слова закончатся, состоится уже, наконец-то, парад в честь народных гуляний в честь шествия в честь марша в честь парада.
Такие и подобные построения иногда снятся человеку с высокой температурой.
* * *
Нового ничего не бывает. Это только так кажется. Новым и неожиданным может быть только контекст. Новым может быть только резкое и неожиданное жанровое смещение. Новым иногда кажется то, что возникает при резком взбалтывании устоявшейся жидкой субстанции, когда ее нижние слои меняются местами с верхними и, соответственно, наоборот.
Вот, например, когда я вижу-слышу нынешних “аналитиков-политологов-международников-депутатов-пресс-секретарей”, заполняющих своими ароматными “анализами” информационное пространство, я вспоминаю конец семидесятых, когда в телевизоре или в газете звучал нескончаемый, на одной ноте бубнеж про “неуклонное повышение развития” или про “миролюбивую ленинскую внешнюю политику”, но зато рядом с ближайшим пивным ларьком клубились целые толпы совсем иных политологов и аналитиков, ничем особенно не отличающихся от нынешних, которые теперь в телевизоре или в газете. Они были, конечно, интереснее. Хотя бы потому, что говорили не по писаному. И потому, что их словами и голосами вещало само великое Коллективное Бессознательное.
Первым из публичных персонажей этот дискурс, основанный на полном небрежении к классической логике, а также к моральным или эстетическим условностям и приличиям, на полную громкость включил, кажется, Жириновский. Он-то и был подлинным новатором.
Эти, нынешние, всего лишь эпигоны, берущие лишь своей многочисленностью, мощной технической оснащенностью и поддержкой с земли, с моря и с воздуха всеми родами войск.
Так что меня-то они ничем не удивляют. Удивлять может лишь их перемещение из одного социально-культурного этажа на другой. Но и это уже становится привычным. А то, что они говорят, я уже слышал. У пивного ларька. Еще в те далекие годы.
* * *
“Почему от искупавшегося в проруби президента не идет пар?” — задаются вопросом многие из вольных или невольных зрителей крещенского ролика.
“Почему, почему? — отвечают им скептики. — Потому!” Некоторые, особенно остроумные, еще и добавляют: “А он и тени к тому же не отбрасывает”.
Я же вспоминаю рассказ одного сильно старшего знакомого о том, как в ноябре сорок первого года во всех кинотеатрах страны показывали кинохронику со знаменитым парадом седьмого ноября. И конечно, выступление Сталина на этом параде. Сам этот знакомый был тогда слишком юным для фронта и в ожидании призыва работал киномехаником в каком-то уральском городе.
После одного из сеансов с парадом и выступлением, рассказывал он, когда публика стала расходиться по домам, от одного человека к другому перебегал сильно взволнованный человек с одним и тем же вопросом: “Вы заметили, что у всех, кто стояли на трибуне, шел пар изо рта, а у товарища Сталина пар изо рта не шел? Как вы думаете, почему?”
От этого неугомонного правдоискателя шарахались, как от чумы. “Не знаю, — закончил свой рассказ мой знакомый, — дошел или этот любопытный до дому!”
* * *
Коммунальный опыт — все-таки важный опыт. И многое объясняющий в этой непростой жизни.
Ну, допустим:
— Что же это вы, Клавдия Николаевна, со всей квартирой-то разругались? Не стыдно вам?
— А чего стыдно? Это они со мной разругались. А я ни с кем не ругалась. Я ко всем хорошо отношусь. А они чего-то взъелись. Ну и ладно — не очень-то и хотелось. Проживу как-нибудь.
— Что значит взъелись? Вы вот зачем у Валентины Андреевны кастрюлю взяли и не отдаете? Она ж не ваша…
— Моя это кастрюля. Ее моя мама покойная ее матери подарила на день рождения.
— Так значит не ваша?
— Как это не моя? Моя мама за свои деньги купила. Да и мне нужнее. У меня вот двое детей, а у нее один, и тот балбес. Моя это кастрюля!
— Ну, как же она ваша. Вон все соседи подтверждают, что не ваша.
— Так они все что хошь подтвердят. Они все у Вальки деньги одалживают.
— Так не хотите мириться с соседями?
— Как не хочу? Хочу! Я человек мирный, никого не трогаю. Мир лучше ссоры, это все знают.
— Так кастрюлю-то, может, отдадите?
— Чего это я буду отдавать свою кастрюлю, если она моя?
* * *
Вот одно из чудесных откровений какой-то депутатки:
“Сила и преимущество новой России в том, что у нас сейчас появилась общая идея. И эта идея — сама Россия”.
Я, конечно же, немедленно вспомнил старый, но хороший анекдот.
В поезде напротив друг друга сидят две не знакомые друг другу дамы.
На руке одной из них огромный, невероятной красоты бриллиант.
Вторая, как ни старается соблюсти приличия, не может время от времени не взглянуть на это чудо.
В какой-то момент обладательница сокровища, улыбнувшись, говорит:
“Я вижу, что вас заинтересовало мое кольцо”. “Да! — говорит вторая. — Вы уж извините меня за бесцеремонность, но я впервые вижу таких размеров и такой чистоты камень”.
“Да, — говорит первая, — это очень знаменитый бриллиант. Он называется «бриллиант Рабиновича». Но над ним висит страшное старинное проклятие”.
“Какое же?” — затаив дыхание спрашивает вторая.
“Сам Рабинович”.
* * *
“Петербургские казаки потребовали запретить ловить покемонов в России”, — прочитал я.
То, что я до сих пор вздрагиваю от нелепого словосочетания “петербургские казаки”, это ладно, это моя, как говорится, проблема, и я с ней справлюсь сам.
В данном случае я беспокоюсь о другом. Я беспокоюсь и тревожно думаю о том, что если этих самых покемонов совсем не ловить, то сколько же их тут разведется? Думаю, не меньше, чем казаков. В том числе и петербургских.
Ведь перекусают же всех! А заразы сколько разнесут! Об этом подумали?
* * *
Давно, в семидесятые годы, я однажды подслушал фрагмент разговора двух мужчин в военной форме.
Из контекста разговора я понял, что один из них был военный музыкант. Ну, типа, дирижер военного оркестра. Второй же все пытался понять, в чем, собственно, состоит функция дирижера. Музыканты — это понятно — инструменты, ноты, то-се… а дирижер-то там что делает?
Дирижер пытался объяснить, говоря что-то о репетициях, о партитуре, о согласованности партий, о ритме и темпе.
“Нет, я понимаю так, — говорил второй. — Ты даешь команду, они играют . А махать-то зачем?”
В тот момент они как бы олицетворяли и иллюстрировали собой специфические взаимоотношения между искусством и государством.
* * *
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: