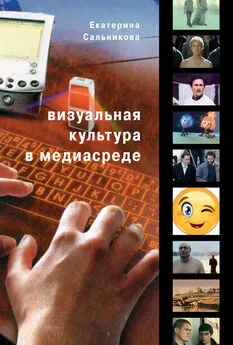Екатерина Сальникова - Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1
- Название:Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449374813
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Сальникова - Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1 краткое содержание
Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эпоха глобализации и повсеместного распространения индивидуальных компьютеров привела к медийному буму, к многократно возросшей активности коммуникационных процессов. Они упростились, стали более многообразными, и сделались остро необходимыми в человеческой жизнедеятельности. Искусство развивается в унисон с магистральными процессами культуры и общества. И по-своему сопротивляется тем энтропийным процессам, тому хаосу и распылению духовной энергии, которые тоже имеют место. В отдельном произведении искусства все более ценится не только его оригинальность, но и его встроенность в многообразные взаимосвязи с другими произведениями, с различными культурными явлениями.
Сегодня можно сказать, что эпоха интернета породила принципы перманентного разрастания сети и внутреннего диалога компьютерной реальности и интернет-реальности с внесетевой и внеэлектронной реальностью. Мир по ту и эту сторону экранов складывается в единый, постоянно усложняющийся, полный динамики, гипертекст. К. Э. Разлогов уже писал об экранном гипертексте («гипертекст – это и кадр, и экранная культура во всей своей целостности» [27]) и наличием нескольких самостоятельных потоков текста на телевидении. Как пишет исследователь, интернет и экранная культура выступили в роли катализатора «выявления некоей особенности работы мышления и восприятия с окружающим миром, которая стала в известной мере систематизированной и, благодаря новым технологиям, получила право самостоятельного существования как в сфере чистой коммуникации, так и в сфере творческой и художественной переработки и внешней и внутренней реальности» [28].
Для иллюстрации к тому, как, собственно, могут складываться звенья гипертекста, обратимся к диаметрально противоположным по эстетике картинам – артхаусному кино Михаэля Ханеке и Пола Верховена, с одной стороны, и массовому кино Гая Ричи.
Как уже говорилось в начале введения, у Ханеке появляются героини, исполняемая Изабель Юппер в трех картинах «Пианистка», «Любовь» и «Хеппи-энд», а также у Пола Верховена Юппер играет главную героиню в фильме «Она». В сущности, все это разные грани и возрастные стадии одного и того же человека, одной и той же женщины. В «Пианистке» (2001) преподавательница Венской консерватории страдает от отсутствия садомазохистской любви, переживая разочарование в молодом человеке, ухаживающим за ней. Однако через этот сюжет режиссер опосредованно выражает тоску Эрики, творческой женщины среднего возраста по Невозможному и Экстраординарному, Запретному и вырывающемуся за пределы традиционного, прекрасного, респектабельного.

Кадр из фильма «Пианистка». Изабель Юппер в роли Эрики.
2001. Режиссер и сценарист Михаэль Ханеке. Оператор Кристиан Бергер. По роману Эльфриды Елинек.
В «Любви» (2012) Изабель Юппер создает образ дочери главных героев. Ева довольно легко переживает измену мужа и скандал в оркестре, где они оба играют, что продолжает тему невысокой оценки любви без неожиданностей, странностей и экстремальности. Катастрофой же видится героине смертельная болезнь матери, ее неуклонное угасание. Это страшно – и в то же время неприлично. Медленно приближающаяся смерть – это скандал, это нечто, вселяющее в героиню панику и ощущение неимоверной неловкости.
В «Она» (2016) героиня Изабель Юппер является владелицей фирмы, создающей компьютерные игры. Мишель требует от своих сотрудников создания нового уровня ощущений у игроков – чтобы кровь чувствовалась ими на губах. Параллельно с управлением бизнесом Мишель вступает в странные отношения с соседом, который врывается к ней и насилует ее. Сначала – неожиданно для героини, а потом – с ее внутреннего согласия, после некоторой негласной договоренности о повторении экстраординарного садомазохистского опыта.
В сущности, в «Она» Пола Верховена Мишель получает частицу того, о чем мечтала Эрика в «Пианистке» Ханеке. Однако Верховен показывает, что и садомазохистский эротизм слишком быстро встраивается в обыденное восприятие действительности. Его нивелирует быстрая адаптация героини к любым психофизическим потрясениям. Романтизировать изнасилование может лишь киноглаз, предлагая созерцание соответствующих сцен в замедленной съемке, словно героиня пытается умозрительно прожить полученный опыт как можно длительнее и подробнее. Но внешняя реальность, в которой живет Мишель, ее близкие и друзья, удручающе прозаична. Насилие, бывшее недосягаемой и глубоко выстраданной мечтой для Эрики, становится достигнутым «бонусом», развлечением, досугом для Мишель. Насилие освобождается от сопутствовавших ему поначалу страха и чувства жертвы. А последующее случайное убийство соседа, вносившего пикантное разнообразие в рутинное бытие, не рождает у героини чувства вины и сожаления. Не будет этих чувств и у Анны, героини «Хэппи-энда», владелицы и управляющей строительной корпорацией, косвенно повинной в значительных травмах одного из рабочих. Для Анны это досадная проблема, нуждающаяся в финансовом и правовом урегулировании, а отнюдь не экзистенциальный вопрос об ответственности европейского среднего класса за жизнь и благополучие низших слоев общества, иностранной наемной силы.
Мотивы насилия и любви в диапазоне от экстраординарного до обыденного, лишенного драматической глубины, развиваются во всех четырех картинах как непрерывные, ветвящиеся линии. Они складываются в своего рода гипертекст, в котором разные образы Изабель Юппер можно рассматривать как ссылки друг на друга. В целом это рождает надавторское экранное высказывание о несоответствии европейской финансово благополучной женщины своим собственным притязаниям. О постепенном вырождении человеческой оригинальности, об атрофии сострадания и невозможности ценить жизнь и человека как таковых – но лишь жизнь немногочисленных близких и личное благополучие, выражающееся в отсутствии нежелательных душевных переживаний. Это высказывание «пишется» как бы поверх отдельных творческих замыслов конкретных режиссеров и подхватывается в других картинах (например, в «Под песком» Франсуа Озона, в «Скрытом» Ханеке, в «Будущем» Миа Хансен-Леве и пр.), тем не менее, превращая образы женщины среднего возраста в высоко значимые звенья современного экранного гипертекста.
Перейдем к вполне заурядному и потому весьма показательному фильму Гая Ричи «Меч короля Артура» (2017). Внутри истории Артура появляется резко переосмысленный персонаж, имеющий прямое отношение к легендам Артуровского цикла. Это волшебница, именуемая Маг. Астрид Берже-Фрисби играет ее как очень худую, нервную, странную девушку. Нам показано, что она способна пересиливать черную магическую энергию злых духов, с которыми заключил союз король-узурпатор, и поэтому героиня весьма полезна Артуру и его друзьям. Но Маг совершенно не может защищать себя. Перед грубой силой приспешников короля она беспомощна. Это довольно нелогично. Если уж героиня управляет стихиями, то почему бы ей не прибегнуть к ним тогда, когда ей угрожает плен и расправа?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: