Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres]
- Название:Природа зла. Сырье и государство [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1344-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres] краткое содержание
Природа зла. Сырье и государство [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Банки и биржи мира нуждаются в универсально разделяемых фикциях, какой когда-то был золотой стандарт. Цена барреля текуча, как сама нефть, но зато она по-настоящему глобальна. Нефтяной стандарт должен быть очень полезной фикцией, если он поддерживается не только сосредоточенными усилиями владельцев «разведанных запасов», но и правительствами трудозависимых стран, которые тратят триллионы своих налогоплательщиков на поддержку энергетического сектора. Идея золотого стандарта, прославленная Поланьи как интеллектуальное достижение ХIХ века, восходит к утилитаризму Иеремии Бентама – его идее суммы всех благ, исчислимой и конечной. Монетизация всех товаров и услуг основана на едином стандарте цен, а он гарантирован золотым запасом, увеличение которого – задача меркантильного государства. В ХХ веке казалось, что золотой стандарт можно отменить, сохранив «экономику» конечной и исчислимой. В политических дебатах ХХI века эта идея связана с концепцией финансовой сдержанности (austerity), а противоположную идею называют популизмом. Подмена общего количества золота общим количеством нефти мало что изменила в этом видении мира, тем более что добытчики и владельцы того и другого – одни и те же страны.
Правда состоит в том, что большая часть разведанных запасов нефти и газа никогда не будет использована. Согласно прогнозам Carbon Tracker, лишь треть разведанных запасов нефти, газа и угля будет когда-либо извлечена и употреблена. Сжигание большего количества карбона приведет к повышению средней температуры больше чем на два градуса Цельсия, a это станет смертью цивилизации, какую мы знаем. Германия уже производит большую часть энергии из возобновляемых источников; Франция объявила об отказе от добычи нефти с 2040 года. Ограничения в добыче и потреблении ископаемого горючего не будут иметь рыночного характера. Они могут исходить только от государств, или скорее от их объединений. Надо надеяться, в них воплотится политическая воля народов. В Германии существует выражение: «он настолько богат, что смердит». Приводя примеры из средневекового фольклора, Фрейд писал: «Известно, что золото, которым дьявол награждает своих любимцев, после его исчезновения превращается в экскременты». Эту идею о родстве золота и дерьма сегодня стоит распространить на углеводороды.
В 1977 году журнал The Economist описал «голландскую болезнь» – экономический спад, который произошел в Нидерландах после открытия большого месторождения газа в Северном море, недалеко от Гронингена. Даже в развитой стране появление сверхприбыльного сектора экономики подавило другие сектора. Удорожание национальной валюты вело к безработице, инфляции, эмиграции и другим бедам. Поскольку нефть находилась в государственной собственности, а другие сектора – земледелие, товарная промышленность – были частными, голландская болезнь вела к расширению госсектора. Сырьевая сверхприбыль обесценивала труд.
Все же Голландия, а потом Норвегия, Канада, Австралия справились с проблемами сырьевого экспорта. Голландскую болезнь научились лечить, собирая нефтедоллары в суверенных фондах; это принципиально новые меркантильные институты. Перед ними стоят задачи «стерилизации прибылей», «резервного накопления», «помощи грядущим поколениям». В отличие от утилитарной экономики «государства всеобщего благосостояния», которая максимизировала потребление, «стерилизующие» фонды имеют целью вывести петроденьги из оборота. Они откладывают потребление накопленных средств на далекое и неопределенное будущее. Эти «суверенные фонды» выполняют ту же функцию роста, накопления и самоудовлетворения, что и «государственная казна» меркантилистской эпохи. Разница в том, что если в прежние времена суверен имел все права на распоряжение собственной казной, новые меркантилистские фонды окружают использование собственных средств множеством запретов и препятствий. Для этого, говорят экономисты, нужны «хорошие институты» – дееспособный парламент, независимый суд, свободная пресса; только они способны справиться с такими рисками.
История политэкономической мысли не предвидела ничего похожего на «стерилизацию» огромных потоков, сравнимых с национальными доходами. Либералы и марксисты учили, что сила государства и благосостояние общества зависят от должного баланса между трудом, потреблением и накоплением. Они не предполагали, что решающим станет другой, даже противоположный вопрос: как изъять средства из экономического оборота? Это еще и вопрос о роли государства в экономике. Изъять средства может только суверен, и только он ответственен за охрану собственного фонда. Как не допустить расхищения этого фонда самим сувереном? Что охраняем, то и имеем; Protego ergo obligo – так Карл Шмидт формулировал основную истину политической философии, сравнимой по значению с декартовской Cogito ergo sum. Но расходование «стерилизованных» средств возвращает их в оборот, что подрывает смысл всего громоздкого механизма; а если суверен делает это тайно, вне публичного контроля, расходы становятся непродуктивными, далекими от утилитарной рациональности. Уж лучше бы они были поровну розданы всем гражданам, что распределило бы риски. А еще лучше было бы, если бы эти сокровища с самого начала оставили в земле.
В Норвегии в таком фонде накоплен триллион долларов. Фонд подчиняется финансовым и этическим правилам, которые приняты парламентом. Следуя им, фонд давно избавился от акций всех табачных компаний, а недавно продал и акции угольных компаний; он пока еще владеет нефтяными бумагами, но избавляется и от них. По закону правительство может тратить из этого фонда не более 3 % в год на выплату пенсий и другие нужды. При этом норвежские нефтяные корпорации работают в полную силу, качая энергию со дна моря, продавая ее, расширяя производство и выплачивая оклады работникам. Идущие на экспорт, нефть и газ сжигаются иностранными потребителями, загрязняя общую атмосферу и ничего не принося гражданам страны. Большая часть энергии, которую потребляет сама Норвегия, поступает с гидроэлектростанций. Возможно, Норвегии помог ее предыдущий опыт ресурсного хозяйства. Двести лет назад это была бедная страна, находившаяся в колониальной зависимости; источники ее доходов – рыба, древесина, зерно – всегда были диффузными, их нельзя было монополизировать. В таком случае решающую роль для избегания нефтяного проклятия играют не предшествовавшие институты, как полагают политологи, а предшествовавшие ресурсы. Пример Норвегии доказывает, что и с нефтью можно жить достойно, полагаясь на труд своих граждан. Было бы лучше, если бы нефть просто осталась в земле; однако эта рациональная страна предпочла добывать нефть, продавать ее и инвестировать доходы в международные акции финансовых и промышленных компаний. Сам этот факт подтверждает то, что отношение Пребиша – Сингера действует и сегодня: деньги, вложенные в перерабатывающие отрасли, растут быстрее, чем деньги, вложенные в сырье и энергию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres]](/books/1074176/aleksandr-etkind-priroda-zla-syre-i-gosudarstvo.webp)




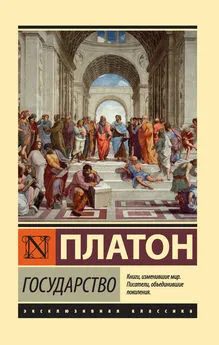


![Дмитрий Соколов - Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма [litres]](/books/1150426/dmitrij-sokolov-nebesnye-magnity-priroda-i-princi.webp)

