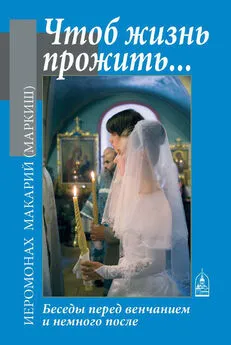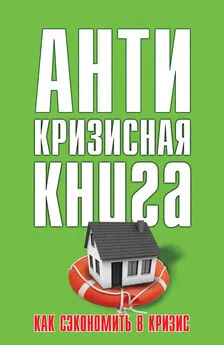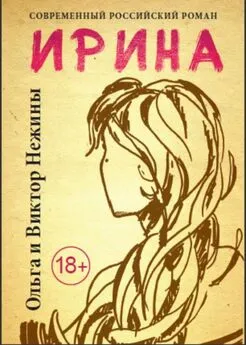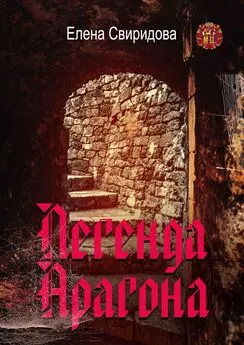Свиридова Александровна - «Чтоб они, суки, знали»
- Название:«Чтоб они, суки, знали»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Дискурс
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Свиридова Александровна - «Чтоб они, суки, знали» краткое содержание
Бумаги Раскольникова были рассыпаны и перепрятаны архивистами, получившими некогда приказ об уничтожении бумаг. В досье близлежащих его соратников — от вождя Владимира Ленина до красавицы жены Ларисы Рейснер — можно было найти его листочки. «Единица хранения» называлась каждая папочка и имела свой собственный номер. Папку за папкой я перебирала «параллельные» судьбы, выуживая «единицы хранения», имеющие отношение к Раскольникову, пока однажды они все не улеглись в стопочку передо мной в пустом зале Румянцевской библиотеки в Отделе рукописей. Можно было начинать работать.
Я любила заглядывать в формуляр выдачи, — узнавать, кто и в каком году дотрагивался до меня до этих листочков. С удивлением обнаружила в каждом формуляре старательно выведенное всего одно имя — «Шаламов»... Меня допустили к архиву Шаламова. Это был океан.
«Чтоб они, суки, знали» — бесхитростно назывался сценарий по мотивам биографии и «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. Из фрагментов разрозненных текстов писателя, которого только начали печатать «толстые» журналы, я сложила некий условный предсмертный монолог-исповедь о его страшном жизненном опыте. Ту самую попытку биографии, которую сам Шаламов забросил. Его размышление о двух формах бытия Поэта — в реальности и творчестве. О двух видах Колымы — реальной — из снега и льда, на которой двадцать лет проживало его тщедушное тело, и мифологической, величественной, как царство Аида, воспетой им в стихах и прозе во всю мощь его неотмирного дара и духа.
«Чтоб они, суки, знали» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Единственной реальностью остается сама литература.
Литература за вычетом человеческой судьбы.
Судьбы человека, который ее создает.
Ирина Шилова
Вместо предисловия
Меня не раз спрашивали, как возник интерес к В. Шаламову. Признаюсь: не было у меня интереса. Не было даже такого слова — «Шаламов». Была Украина, маленький южный город, заросший акацией, август пятьдесят первого. Я появилась на свет в чудом уцелевшей после войны семье, и лет до пяти жила в благости неведения. У меня была самая лучшая бабушка, за которую можно спрятаться, если за тобой гонятся, и которая вылечит от всего, если что-то болит. В соседнем городе был папа, который слал телеграммы на красивых бланках с цветами. И ветром вокруг кружилась самая красивая на свете мама. Такая красивая, что на нее было больно смотреть, как на солнце. Ее было видно издалека, как пожарную каланчу у базара — такая высокая. С вьющимися каштановыми волосами, тонким профилем, горделивой осанкой и царственной походкой. К ней у меня был интерес: где она, куда ушла, когда придет. Мама тоже лечила больных, но не ласково, как бабушка, а строго. И длинные красивые ее пальцы были холодными, а бабины — теплыми даже зимой.
Мир вокруг был понятным, состоял из травы и деревьев, птиц на ветках, кошек под ногами, собак в подворотнях, и лошадей, что цокая копытами, тащили телеги по булыжной мостовой. Когда настало время идти в школу, город зашелестел, как крона акации в дождь, — все зашептались, и два новых слова вторглись в быт: «Двадцатый съезд». Кто-то входил в нашу маленькую квартиру, брал какую-то книгу, какую-то оставлял. Бабушка заваривала из муки клейстер, подклеивала рассыпавшуюся газету, в которой все что-то читали. Кто-то всхлипывал, кто-то плакал. Потом бабушка стала дважды проверять, заперла ли дверь. Прислушиваться к маминым шагам, когда та поздно возвращалась домой. А потом и вовсе они стали поднимать тяжелый чугунный болт, висевший в углу в коридоре еще «с погромов», как говорила бабушка, и накидывать его на ночь на крюк, запирая дверь изнутри. А в переулках слева и справа от нашего квартала, появились новые люди. Разные, но с одинаково белесыми лицами и жадными цепкими глазами. Сосед Колюня окликнул меня, когда я шла с маленьким бидончиком к цистерне за молоком, и важно представил «брательнику». Тот придирчиво оглядел меня, спросил, где батя, выслушал, что он с нами не живет, и одобрительно кивнул. А дальше другие пацаны расхвастались другими «брательниками», что «откинулись» с зоны, и улица разделилась: одни обступали брательников, слушали их рассказы, другие, убыстряя шаги, проходили мимо. Пацаны брательниками гордились. Они умели то, чего не умел никто, и учили нас: играть пустыми руками в тюремное «очко», или в «ножичек», когда описывали круг на земле, делили пополам на твоё-моё, и так мастерски бросали в кружочек нож, что все «твоё» отрезалось по ломтику и становилось «моё». Учили кидать и нас: из положения сидя, потом — с колена, потом — с высоты полного роста. Учили делать финки из осколков пилы, а из цветных зубных щеток — наборные рукоятки. Никогда я не гордилась собой больше, чем в день, когда попала финкой в мишень на заборе, и не было выше похвалы, чем одобрение старого урки. Потом по городу прокатилась волна грабежей и убийств, и брательников с финками, фиксами, татуировками у пацанов не стало. Не стало и многих пацанов. А потом в сумерках кто-то стукнул в наше окно, мама спросила «Кто там?», открыла дверь, вскрикнула и ухватилась за дверной косяк, чтобы устоять. На пороге стояла красивая женщина. Одного с мамой роста и на одно лицо. Только волосы у нее не вились, а лежали гладко, и были белыми. Да сухая бледная кожа на щеках, как у брательников. От нее разило табаком, как от них, а стоило ей улыбнуться, как блеснул во рту железный зуб. Это была мамина довоенная подруга Лёля.
Они родились в одном городе в один день одного года. Вместе пошли в школу, вместе закончили ее. На рассвете после выпускного пришли с Днепра, и услыхали «война». Обе остались в городе, обе стали подпольщицами. Моей — «повезло», как сказала Лёля: ее арестовало гестапо, а Лёле — нет: ее взяли свои, когда освободили город. И обвинили в том, что она выдала подпольщиков. Вместе с полицаями и гестаповцами осудили по страшной 58-й статье пункт А — «измена Родине» — и сослали на Колыму. Она выжила там, осталась после освобождения медсестрой в Сусумане, и вот — впервые приехала в отпуск.
Лёля не знала, кто помнит ее в Херсоне, кто верит, что не выдавала она никого. Мама и бабушка мои верили, и Лёля осталась у нас ночевать. Я смотрела на них и выискивала, что у них разного — словно боялась на утро не узнать, какая из них — моя. А ночью, когда бабушка ушла на дежурство в Военный госпиталь, что был через дорогу напротив нашего дома, меня уложили спать, и мама с Лёлей начали шептаться.
Сколько им было в том пятьдесят восьмом? Едва перевалило за тридцать.
Они тихо рассказывали друг другу, как их убивали. Мама распалялась и жарко шептала, как ее пытали, как полицай спросил на допросе, знакома ли она с Грицем. Она сказала «нет», а он положил перед ней фото, где они с Грицем стояли рядом зимой, и она не узнала себя в детской шапке.
«Соврала», — сказал полицай, ударил кулаком в лицо, она увернулась, он попал по уху, и она оглохла. Кто бил ее дальше — не видела. Не чувствовала, как упала. Пришла в себя, когда на нее вылили ведро воды. Поняла, что слышала, как волокли ее из той комнаты, где допрашивали, туда, где она лежала теперь на цементном полу. Над ней склонилась женщина-врач.
— Я узнала ее! — шептала мама. — Она до войны бывала у нас в доме. «Ничего, до смерти — доживешь», — сказала она.
— Повезло, — спокойно протянула Лёля, затягиваясь папиросой. — Тебя все-таки фрицы пытали, а меня — свои...
— Да какие фрицы? — протестовала мама. — Полицаи...
— А меня — наши. Освободители, — иронично тянула Леля.
Я боялась дышать: вдруг услышат, что не сплю? Но они забыли о моем существовании. Я, наконец, устала, заснула, но они стали чиркать спичками, а потом вообще зажгли свечу в баночке из-под сметаны, что стоила три копейки, когда я сдавала посуду. Комната озарилась, и они — две красавицы в самодельных ночнушках, принялись стаскивать их то с одного плеча, то с другого, чтоб показать друг другу шрамы, оставшиеся после пыток. У мамы на груди, и у Лёли на груди, у мамы — на правой, у Лёли — на левой. Они изумленно разглядывали одинаковые шрамы на теле друг друга. И если бы не две черные всклокоченные тени на потолке, можно было подумать, что в комнате сидела одна мама, но перед огромным зеркалом...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: