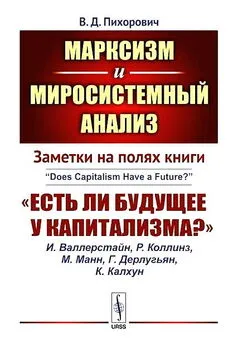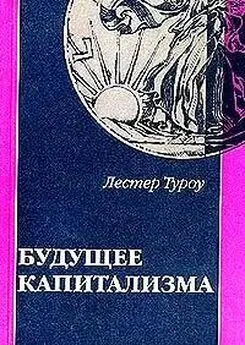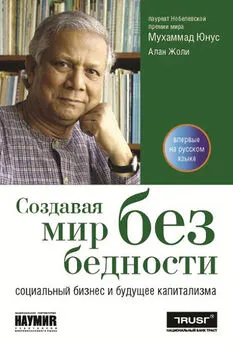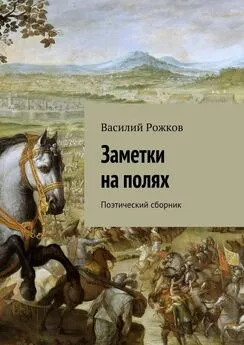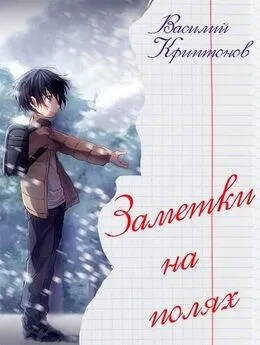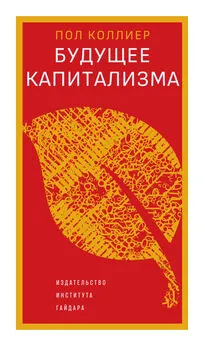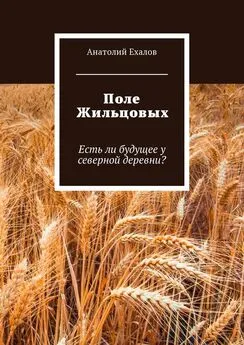Василий Пихорович - Заметки на полях книги «Есть ли будущее у капитализма?»
- Название:Заметки на полях книги «Есть ли будущее у капитализма?»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Пихорович - Заметки на полях книги «Есть ли будущее у капитализма?» краткое содержание
Всем, для кого это небезразлично, предназначена предлагаемая попытка внимательного прочтения книги «Есть ли будущее у капитализма?» сквозь призму аккумулированного в марксизме исторического опыта теоретического и практического решения поставленного в ней вопроса.
Заметки на полях книги «Есть ли будущее у капитализма?» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так вот, о том, как пытаются преодолевать эту проблему представители школы мирсистемного анализа, к которым принадлежит и инициатор создания книги «Есть ли будущее у капитализма?» Георгий Дерлугьян, читайте в следующей статье этого цикла.
Часть 3. О методе мирсистемного анализа
Молодой, но очень талантливый (правильнее писать молодой И очень талантливый, «но» появилось здесь только потому, что такое в общем-то нормальное сочетание сейчас является большой редкостью) польский марксист Миколай Загорский заметил как-то об Иммануиле Валлерстайне, что его «логика основана больше на унаследованном от Спинозы чувстве целостности, чем на действительно всестороннем анализе» [3–1] [3–1] Mikołaj Zagorski. Перевод с белорусского Dominik Jaroszkiewicz. Цетка и мы. Часть 2. http://propaganda-journal.net/9703.html
. И хотя эта характеристика сформулирована в виде претензии, даже несколько обидной для социолога, но если бы кто-то хотел похвалить Валлерстайна, вряд ли бы он смог придумать что-то более удачное. Особенно, если учесть, что Валлерстайн, так или иначе, является американским ученым, а американских ученых сложнее всего обвинить в наличии целостного мировоззрения.
В книге К.Е Левитина "Личностью не рождаются" приводится вот такой эпизод:
"В США вышла работа одного советского психолога, и в редакционном предисловии к ней было сказано несколько теплых слов об авторе, в том числе и то, что он «чрезвычайно эклектичен» в изложении материала. Нам с Александром Романовичем Лурией пришлось утешать обиженного автора, убеждать его, что издатели хотели на свой лад похвалить его, ибо в их устах «эклектичность» значит «широта кругозора, способность одновременно воспринимать несколько разных учений», одним словом — комплимент коллеге". Левитин К.Е. Личностью не рождаются. http://mexalib.com/view/166008
Боюсь, что с тех времен ситуация с методом в американской гуманитарной науке если и изменилась, то отнюдь не в лучшую сторону. Не исключено, что даже принципиально эклектичных авторов там сейчас вполне могут обвинить в излишней последовательности. Уже несколько десятилетий там в моде учения, которые требуют, например, от философов не просто отказа от претензии на истинность их концепций, но и отказа от права искать истину в принципе. Ни о каком соответствии знаний действительности вообще заговаривать нельзя. Философия превращается в ни к чему не обязывающую «критику культуры», а философы в «иронизирующих либералов», которые вправе только «прикалываться» по поводу различных научных, философских, социально-политических концепций, но не смеют даже мечтать не только о том, чтобы изменить мир, но даже о том, чтобы объяснить его каким-то более или менее определенным образом. И это отнюдь не характеристика позиции одного только Р. Рорти или, скажем, постмодернистов. На смену им приходят еще более радикальные ниспровергатели любых намеков на последовательность в деле мышления.
Разумеется, что в таких условиях быть наследником или хотя бы показаться [3–2] [3–2] Конечно, все зависит от того, кому «показаться». Но показаться «наследником Спинозы» пришедшему к марксизму через изучение католической теологии молодому и крайне придирчивому в плане метода польскому теоретику, считающему себя продолжателем линии Спинозы-Гегеля-Маркса-Ленина-Ильенкова — это уже кое-что.
наследником Спинозы в деле логики — это великое дело. Ведь быть спинозистом, — как утверждал Гегель, — есть существенное начало всякого философствования [3–3] [3–3] Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. СПб.: Наука
.
Но все дело в том, что это только начало, и только философствования. Когда же речь идет о социологии, то она уже давным-давно вышла из философских пеленок, и ограничиваться здесь «философствованием» никому в голову не приходит. Правда, точно так же современным социологам не приходит в голову, что ни в какой науке вообще, а в социологии и подавно, невозможно обойтись без философии в той мере, в какой там приходится не просто констатировать факты, а как-то их обобщать и делать из них выводы. И в этом смысле «быть наследником Спинозы» — это уже очень здорово. А если учесть, что М. Загорский считает, что от Спинозы Иммануил Валлерстайн унаследовал «чувство целостности мирового хозяйства», то это вообще уже почти полдела.
Но, в отличие от наследства вещественного, наследство духовное (в особенности такое, как метод, способ мышления) является результатом труда не только того, кто это наследство передает (мы здесь абстрагируемся как от того обстоятельства, что при капитализме, как правило, и вещественное наследство является результатом эксплуатации чужого труда, так и от того, что вещественное наследство тоже представляет собой культурное наследство), но и того, кто его получает. Притом тому, кто получает духовное наследство для овладения приобретенным богатством иногда приходится приложить не меньше, а больше труда, чем тому, кто создавал данные духовные ценности, ибо эпоха, породившая эти ценности, вполне может смениться куда менее богатой в духовном отношении эпохой, и наследуемый способ мышления, появление которого было органично в ту эпоху, когда он был сформирован, для новой эпохи может оказаться просто неподъемным. Ведь нередко так бывает, что и в теории на место «славних прадідів великих» приходят «правнуки погані».
Другими словами, для того, чтобы воспользоваться спинозовским наследством, нужно обладать не просто «чувством целостности мирового хозяйства», но и, как минимум, понятием о целостности самого мирового мыслительного процесса. А для этого мало быть спинозистом. Здесь не обойтись без Гегеля, который и выдвинул эту идею — что мировая философия, как и вся духовная культура человечества, представляет собой не просто совокупность мнений отдельных мыслителей, а объективный процесс, который протекает по своим, не зависящим от воли и сознания отдельных людей законам. И тот факт, что без отдельных философов и просто людей, которые обладают сознанием и волей и действуют сообразно им, дело здесь не обходится, ровно ничего не значит. По крайней мере, значит не больше, чем тот факт, что мышление невозможно без мозга. Ведь этот непреложный факт отнюдь не означает, что именно мозг порождает мышление. Как мышление, так и философия, то есть мышление о мышлении, возникают отнюдь не в мозгах отдельных людей, даже если это очень знаменитые философы. И философия, как и наука, религия и все другие общественные формы сознания — мораль, право, искусство — формируются (пусть читатель извинит меня за эту мнимую тавтологию «формы формируются») исторически, то есть — в процессе общественной жизни. Соответственно, если вы хотите понять, что такое мышление, то и изучать вы должны именно этот процесс — процесс общественной жизни — а не процессы, происходящие в мозгах отдельных людей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: