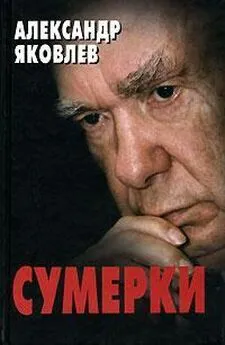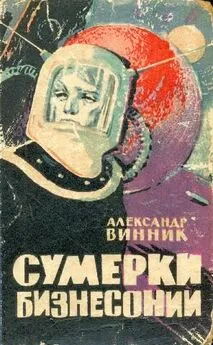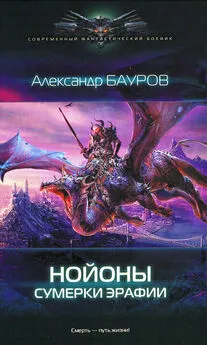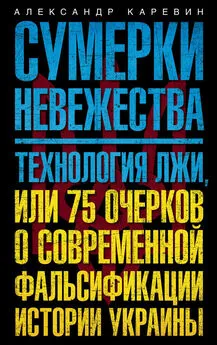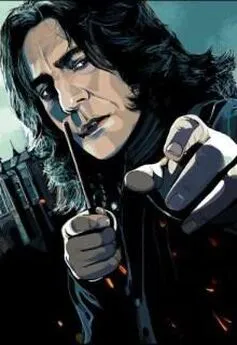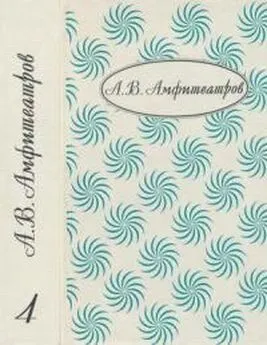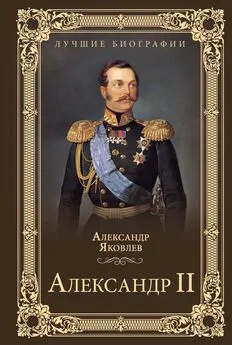Александр Яковлев - Сумерки
- Название:Сумерки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Материк
- Год:2005
- ISBN:5-85646-147-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Яковлев - Сумерки краткое содержание
Его книга — не просто воспоминания о прожитом, это — глубокое исследование советского социально-политического строя и его эволюции, анализ преступных элементов правления страной руководством КПСС, приведших к политическому и экономическому краху страны. Размышления А.Н. Яковлева подкрепляются документами, ещё недавно носившими гриф секретности.
(требуется вычитка)
Сумерки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ищи дополнительные аргументы! — сказал мне как-то Ильичев рассерженным тоном.
В то время, как известно, существовала практика глушения иностранных передач. Бесполезная работа, но требующая огромных мощностей. К тому же цели своей этот треск глушилок не достигал. Уже за несколько десятков километров от крупных городов можно было услышать почти любые иностранные передачи — был бы хороший приемник. Министерство связи, занимавшееся всем этим делом, боясь гнева начальства, поставило особо мощные глушилки на здании Политехнического музея (около здания ЦК КПСС) и на Кутузовском проспекте (где жило большинство членов руководства ЦК).
И вдруг стрельнула лукавая мысль, а что, если глушить «иностранных злодеев» «Маяком»? Убить, так сказать, двух зайцев сразу. Я доложил об этом Ильичеву. Тот улыбнулся, понимал, что предложение с хитрецой, толку будет мало, но пообещал, что доложит Хрущеву. Через несколько дней Леонид Федорович пригласил меня и сказал, что Хрущеву идея понравилась, но надо утихомирить коллектив и председателя комитета Харламова, который уже сказал помощникам Суслова, что затея Яковлева ничего хорошего не принесет. Решили вынести вопрос на открытое партийное собрание телерадиокомитета. Обсуждение было бурным и долгим. Собрание поддержало мое предложение об организации ин- формационно-музыкальной программы. 1 августа 1964 года радиостанция «Маяк» вышла в эфир.
Кстати, в 1968 году Андропов внес предложение о возобновлении глушения, причем втайне от отдела пропаганды. Политбюро приняло и это предложение. «Прогрессист и интеллектуал» пуще всего боялся правдивой информации и «буржуазной заразы».
К этому времени я уже зарекомендовал себя в глазах начальства как чиновник, способный что-то более или менее складно изобразить на бумаге. А поскольку начальство писать речи и доклады не умело, то создавались спецгруппы для подготовки текстов. Работали обычно за городом, на дачах ЦК. Такие выезды продолжались до двух, а то и дольше месяцев. Ели, пили, всего было вдоволь. Играли в домино, на бильярде. Заказчикам речей мы внушали, что работа трудная, требующая времени и больших усилий. На самом деле это было дружным враньем. То, что потом произносилось, можно было подготовить и за неделю.
Так я и попал, вместе со многими моими товарищами, в мутный водоворот бессмыслицы, полный цинизма и лжи, связанный с подготовкой «руководящих» докладов. Не буду рассказывать об этой однообразной рутине. Упомяну лишь о паре запомнившихся эпизодов.
Позвонил Ильичев и сказал, чтобы я сел за доклад к годовщине Октября для Подгорного, председателя Президиума Верховного Совета СССР. Я не стал собирать «команду», жаль было времени. Позвонил Александру Бовину, он работал в то время в журнале «Коммунист». Попросил его написать международную часть, сам сел за внутреннюю. Через пару дней встретились, соединили обе части, однако дорабатывать не стали. Я послал текст помощникам Подгорного, полагая, что они сами найдут людей для доработки. Ждал звонка, но не дождался. Подумал, что кто-то еще готовит параллельный текст. Так часто бывало.
На торжественное собрание в Кремль не пошел — уехал с семьей в двухдневный дом отдыха. Но любопытство привело меня к телевизору. Доклад я услышал в том виде, в каком мы его подготовили. Без всяких поправок. В одном месте прозвучала явная политическая двусмысленность. По окончании доклада позвонил в приемную Подгорного и сказал, что при публикации доклада надо кое-что поправить. Оратора еще не было в его кабинете. Видимо, как всегда, «праздновали». Дежурный обещал доложить Подгорному о моем звонке.
Подождав еще час-два, позвонил снова. Дежурный сказал, что доложил Подгорному, но тот буркнул: «Пусть Яковлев сам и звонит в «Правду». Он писал, пусть он и исправляет». Подгорный был человек незатейливый. С тех пор я гораздо спокойнее, если не сказать — циничнее, стал относиться к подготовке разных текстов для высокого начальства.
Но самый памятной для меня была история, связанная с повестью Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Владимир Лакшин, работавший в журнале «Новый мир», рассказывал мне, как однажды на стол главного редактора «Нового мира» Александра Твардовского легла рукопись тогда еще мало кому известного автора. Она была написана на нескольких ученических тетрадях в клеточку и называлась «Щ-854» (таков был лагерный номер Ивана Денисовича). Как потом говорил Александр Трифонович, он начал читать рукопись поздно вечером и читал до утра. Утром позвонил помощнику Хрущева Лебедеву и попросил прочитать ее Хрущеву. Читка состоялась в один из вечеров на даче Хрущева. Читали помощник Лебедев, а под конец — жена Никиты Сергеевича.
На следующий день Хрущев стал обзванивать некоторых членов Политбюро и спрашивал: знают ли они такого писателя — Солженицына? Ответы были осторожными: никто не знал, но что-то слышал.
— Вот Лебедев пришлет вам рукопись, — она была уже размножена на ротаторе, — почитайте, а на очередном заседании обменяемся мнениями.
И одновременно Хрущев сказал Лебедеву:
— Готовьте книжку для опубликования. Это как нельзя кстати, очень важная иллюстрация к моей речи на XX съезде партии. Пусть почитают, что творилось в лагерях.
И добавил:
— Солженицын — писатель, переживший всю эту трагедию. Ему и веры больше.
Заседание Президиума ЦК Хрущев начал с вопроса:
— Прочитали? Ну, как?
По воспоминаниям людей, с которыми мне пришлось потом говорить, получается, что первым говорил Шелепин. Он считал, что публиковать книгу нецелесообразно. Это ударит по органам безопасности. Выступал Суслов. Он говорил об идеологической опасности — «и так слишком много сказано». (Кстати, некоторые высшие чиновники и в путинское время рассуждают в том же духе). Высказались почти все члены Президиума. Преобладающим было мнение: надо еще подумать, где и как публиковать. На все это чуть раздраженный Хрущев ничего не ответил и только спросил Лебедева:
— Когда мы сможем получить книгу из печати?
Так Хрущев решил и этот вопрос. Единолично.
Но история имела свое продолжение. Повесть Солженицына стала литературным событием. Но не только. Это был мощный политический сигнал. Интеллигенция радовалась. Партаппарат почувствовал опасность. Посыпались письма с мест от партийных комитетов. Трудящиеся, оказывается, возмущены до самой крайности и требуют привлечь к ответственности тех, кто опубликовал «эту клевету на советский строй». Хрущев понимал организованный характер политической атаки. Но сдаваться не хотел — не в его характере. Он добивается решения вынести тело Сталина из Мавзолея и дает прямое указание газете «Правда» опубликовать знаменитое стихотворение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина», в котором поэт писал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: