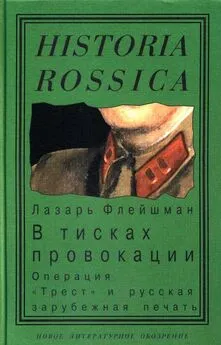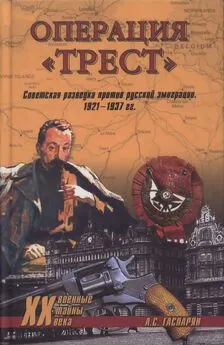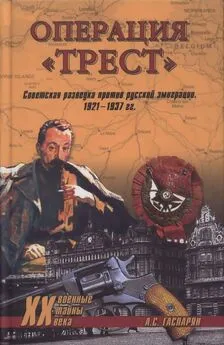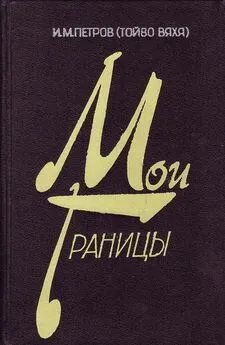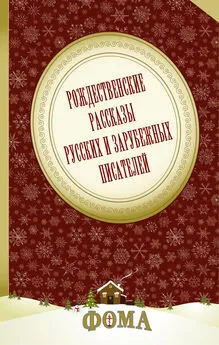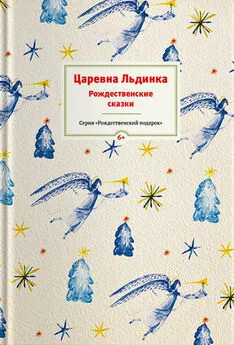Лазарь Флейшман - В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать
- Название:В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2003
- ISBN:5-86793-247-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лазарь Флейшман - В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать краткое содержание
В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если в предприятии В. В. Шульгина была известная доля авантюризма, то П. Д. Долгоруков, с его упорством проникнуть, побывать и посмотреть Россию, — близок к подвижничеству.
Эмиграция как-то закисла, сжалась в себе самой, разделилась по закутам, ушла в книжки, в слова, в повседневщину и забыла о подвиге. Точно она вся в прошлом, точно с крушением Крыма все оборвалось и нет ни способов, ни целей, ни возможностей.
Случай с Долгоруковым должен больно ударить по многим и не столько по лицам, сколько по приемам и тактике.
Старый человек, вместо того, чтобы препираться в эмиграции, ставит себе задачей проникнуть в Россию. Попадаеттуда в первый раз, кра-юшком видит манящее-родное, принимает страдания, выносит их и, выброшенный обратно за границу, вторично готовится и вторично идет, заранее обрекая себя на самое худшее и ужасное, вплоть до смерти [172] Ал. Ксюнин, «Заметки», Россия (Белград), 1926, № 15, 19 декабря, с. 2.
.
Спустя два месяца разошлось известие об отказе чекистов от гласного суда и о расстреле арестованного [173] «Судьба князя Долгорукова», Слово, 1927, 23 февраля, с. 1.
, сочтенное недостоверным [174] Александр Яблоновский, «Слухи», Возрождение, 1927, 26 февраля, с. 2.
. Понятно, что на этом фоне призыв «Антона Антоновича» чаще навещать родину (по конспиративным каналам), переданный через Шульгина, терял внушительную долю своей заманчивости.
Разговаривая перед отъездом с Врангелем, Шульгин никаких поручений от него не получил, услышав одно: «политики не будет». И в своем «последнем слове» перед воображаемым судом автор повторяет, что приехал на розыски сына, а не для того, чтобы «делать политику». Однако, когда книга вышла, обнаружилось, как много «политики» и в ее содержании, и в самом факте ее издания. Публикация создавала ситуацию, в которой Шульгин из хорошо информированного свидетеля перемен, происходящих внутри России, мог вырасти в центральную фигуру эмигрантской политики, став своего рода полпредом «Треста» («теневого правительства»). Многое из того, что твердил Якушев при встречах со своими собеседниками во время непродолжительных командировок на Запад, обретало новый смысл на страницах Трех столиц, будучи освящено поддержкой и авторитетом Шульгина. В свою очередь, писатель, став пылким адептом МОЦР, мог придать новые масштабы деятельности организации, вызвавшись распространять ее работу на новые, прежде не затронутые области. Это было существенным для московских партнеров потому, что отводило упреки в бездействии и противостояло нажиму, оказываемому на них с целью ускорить проведение боевых актов.
Между тем при остром интересе, который возбудили слухи о путешествии Шульгина в СССР и его книга, по выходе ее ни один орган печати русского Зарубежья принять целиком шульгинскую позицию не решился. Безусловно апологетическим был лишь отзыв Возрождения. В своем «Дневнике политика» П. Б. Струве писал: «Не обинуясь, надлежит книгу эту признать крупным явлением, я бы сказал, литературно-политическим событием». Значение ее в том, что, ставя на новую основу отношения между «Зарубежьем» и «Подъяремной Россией», она подтверждает правоту программы «активизма»:
Самая поездка в Советскую Россию «белого» Шульгина уже не умещается в — литературу. Это было какое-то действие и таковым же является и его книга. <���…>
Шульгин своей книгой, широчайшему распространению которой мы все должны содействовать, открывает, освобождает и тем самым прокладывает Зарубежью душевный путь в Россию и к России.
Шульгин, представитель белого Зарубежья в его схождении и слиянии с «приспособившимися» и «контрабандистами», — вот в чем главное содержание и значение этой зовущей к действенности и уже действующей книги [175] Петр Струве, «Дневник политика. 120. Книга о воскресающей России», Возрождение, 1927, 28 января, с. 1.
.
При этом редактор Возрождения обошел молчанием наиболее спорные стороны шульгинской политической доктрины — проповедь фашизма и антиеврейские выпады.
Более сдержанную характеристику книги давала передовая статья Руля. Акцент в ней был поставлен на сдвигах в политических взглядах Шульгина, произошедших в результате погружения в советскую жизнь. В статье говорилось:
Лейтмотив всех наблюдений Шульгина выражается в неоднократно повторяемой фразе: все осталось по-прежнему, но только хуже. Но одновременно автор и сам заявляет, что он смотрел теми же глазами, какие у него были в давно прошедшее время в Гос. Думе, когда ему приходилось бросать взгляды налево. Естественно поэтому, что лейтмотив в той или другой мере является предопределенным, и неудивительно, что он не покрывает, не вмещает некоторых утверждений самого автора. — Поэтому, быть может, ценнее тех выводов, которые сам Шульгин настойчиво или, вернее сказать, назойливо подсказывает (в особенности поскольку речь чуть не на каждой странице идет о доминирующей роли евреев), — ценнее авторских выводов являются отдельные менее яркие штрихи, беспритязательно изложенные факты, которые могут дать читателю незаменимый материал для серьезных размышлений и самостоятельных выводов [176] «Поездка в Россию», Руль. 1927, 28 января, с. 1.
.
В передовой сделана ссылка на признанную самим Шульгиным быструю утрату «отвращения к тамошней жизни, которое так характерно для эмигрантской психологии», на его переход «в психологию приспособившихся». Упомянув и волнения Шульгина в связи с замеченной им слежкой в Киеве, и письмо к А. Г. Москвичу с просьбой о помощи, зашитое в пальто, автор завершил статью пассажем, допускавшим противоположные суждения о книге:
Приведенные факты несомненно вызовут самые разнообразные ощущения в сердцах зарубежных читателей: бурю возмущения в одних, вплоть до обвинения Шульгина в предательстве, тайное или явное сочувствие других и злорадное торжество в третьих, сменивших или собирающихся сменить вехи. Ну а как отнесется к этим фактам советская власть? Увидит ли она в этих штрихах доказательство своей обреченности? Поймет ли она, как легко она могла бы использовать приведенные настроения для своего укрепления, если бы не была обречена каждым жестом своим всех и все против себя вооружать и задыхаться в пустоте. Сознает ли она, что работает для других, которые, воспользовавшись такими настроениями, в полчаса ликвидируют ее кремлевское пребывание и прочно усядутся на ее месте [177] Там же.
.
Гораздо определеннее в своей отрицательной оценке была рецензия в том же Руле, написанная редактором газеты И. В. Гессеном. Указав, что детали советского быта, сообщаемые Шульгиным, ничего нового не содержат, будучи известными по беллетристическим советским произведениям, уже знакомым читателям Руля, и что контакты в СССР автора книги практически были сведены к группе «контрабандистов», Гессен обращает внимание наантиеврейские пассажи в Трех столицах, свидетельствующие о «какой-то одержимости» автора, и на его апологетические высказывания о фашизме. Он даже высказывал предположение, что посылаемое коммунистам «низкое, русское спасибо» может встретить горячую взаимность [178] И. Гессен, «Три столицы», Руль, 1927, 2 февраля, с. 4.
.
Интервал:
Закладка: