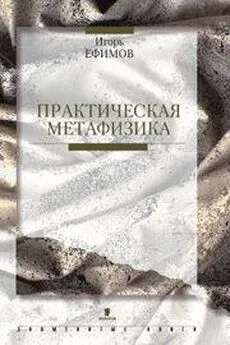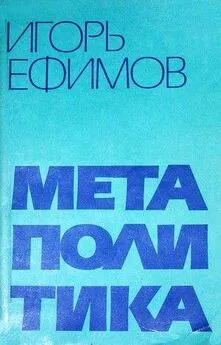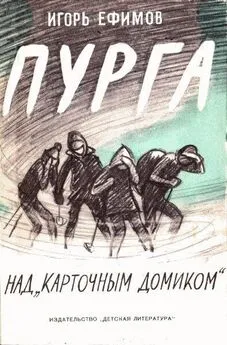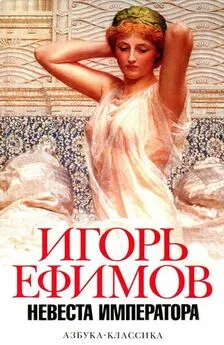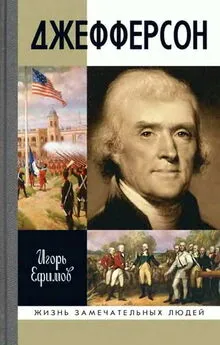Игорь Ефимов - Практическая метафизика
- Название:Практическая метафизика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2001
- ISBN:5-8159-0165-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Ефимов - Практическая метафизика краткое содержание
Книга эта была переправлена автором на Запад в 1970 году и печаталась большими отрывками в журнале «Грани» (1973) под псевдонимом Андрей Московит. Отдельным изданием вышла в Америке, в издательстве «Ардис» (1980), уже после того как Игорь Ефимов эмигрировал из СССР.
Практическая метафизика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Утверждение Шопенгауэра о том, что свобода воли есть иллюзия, вовсе не так легко опровержимо. Если сравнить жаждущую действия человеческую волю со сжатым в котле паром, то можно сказать, что, как пар воображает себя готовым вырваться в любом направлении, через любой клапан или любую трещину, так и воля думает, что сможет при удобном случае выкинуть все, что ей вздумается. Однако, в действительности, так же как пар при поднятии заслонки пойдет, следуя всем извилинам патрубков и турбинных лопаток, так и воля в мире явлений окажется направляемой хитросплетениями множества мотивов, среди которых большинство привходит в наше сознание настолько исподволь и незаметно, что почти не поддается анализу разумом.
Если бы Шопенгауэр оставался абсолютно последова-тельным, если бы твердо стоял на своем до конца, опровергнуть его было бы практически невозможно. Но в том-то и дело, что остаться последовательным он мог, лишь истребив в себе совершенно свое самое врожденное человеческое чувство — различение "доброго" от "дурного", нравственное суждение о поступке, которое имеет смысл только при допущении имевшей место свободы поступить так или иначе.
Представление о людях как о поголовных прохвостах, различающихся лишь степенью ловкости, движимых во всех своих делах исключительно соображениями выгоды, всегда имеет хождение только среди самих же прохвостов. Подобное представление, выливающееся в философии в исторический детерминизм, в идею предопределенности поведения каждого человека фактом рождения в той или иной касте, в том или ином классе, было Шопенгауэру конечно "не под силу". Тогда-то он и попытался приписать понятие "блага", "добра", а следовательно и свободы, единственно отказу от воли, добровольному самоуничтожению ее — мера этого самоуничтожения и должна была определять нравственную высоту человека. Заслонка поднята, но пар отказывается выходить из котла — это, действительно, было бы чудом, единственной возможностью для пара доказать свою свободу. Но по отношению к человеку такой взгляд ничего не менял в сути вопроса. Коль скоро свобода была допущена в поступке отшельника или святого (ибо без свободы благоговение перед ними самого Шопенгауэра теряло всякий смысл), то она должна была быть допущена и в добром поступке любого смертного, вызывавшем в нем, Шопенгауэре, невольное одобрение, — разница оказывалась только в степени. Но разница в степени, столь важная в повседневной жизни, для строгого исследования не значила ничего. И несчастная Шопенгауэровская этика билась в сетях этих противоречий, оказываясь жертвой все той же роковой страсти столь многих умов — страсти к полной и абсолютной завершенности сказанного, к последней точке.
Внутреннее движение Толстого происходило как бы с другого конца. Вопрос о свободе воли вначале вряд ли даже вставал перед ним — настолько он был уверен в ее абсолютной изначальной достоверности. Воля, свобода — в русском языке эти слова вообще сплошь да рядом употребляются как синонимы. "Живущим, — пишет Толстой, — человек знает себя не иначе как хотящим, то есть сознает свою волю. Волю же свою, составляющую сущность его жизни, человек сознает и не может сознавать иначе, как свободною… То, что не было бы свободно, не могло быть и ограничено. Воля человека представляется ему ограниченною именно потому, что он сознает ее не иначе как свободною" 24. В другом месте то же самое свое убеждение он выражает еще короче и нагляднее: "Вы говорите, что я не свободен? А я взял и поднял руку". "Когда мы совершенно не понимаем причины поступка, все равно — в случае ли злодейства, доброго дела или даже безразличного по добру и злу поступка, мы в таком поступке признаем наибольшую долю свободы. В случае злодейства мы более всего требуем за такой поступок наказания; в случае доброго дела, более всего ценим такой поступок. В безразличном случае признаем наибольшую индивидуальность, оригинальность, свободу" 25.
Но постепенно, особенно в процессе работы над "Войной и миром", Толстой оказывался вынужденным все пристальнее вглядываться в феномен непостижимого исчезновения этой самой свободы — исчезновения, наступавшего в тот миг, когда человек делался участником исторических событий, государственной жизни. Знаком исчезновения служило для него как раз то, что врожденное суждение о добром и злом вдруг утрачивало всякий смысл. Люди на его глазах убивали, калечили, унижали друг друга, а он не чувствовал себя в силах назвать их за это злодеями, подлецами — ибо не ощущал в их поступках свободы. Недоумение Николеньки Ростова в Шенграбенском бою ("Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?"), недоумение Пьера во время казни "поджигателей" ("Да кто же это делает, наконец? Они все, офицер и солдаты, страдают так же, как и я. Кто же? Кто же?" 26), выражают прежде всего недоумение самого Толстого перед исчезновением фактора свободы в человеческом поведении, перед загадочной и неодолимой силой, сминающей в условиях войны свободу во всех людях, какими бы добрыми и отзывчивыми они ни казались нам в частной жизни.
Перед лицом гигантских исторических событий, перед всепожирающим молохом войны, действительно, любые утверждения сторонников свободы воли, сторонников тезиса выглядят жалкой, прекраснодушной болтовней. Казалось бы, поистине зрелище, какое являет из себя человек, зажатый в тисках государственной машины, послушно выполняющий все ее веления, дает решительный перевес защитникам антитезиса, их убеждению в абсолютном господстве причинности над всеми явлениями, в том числе, и над человеком. Надо обладать огромной силой духа, чтобы перед лицом такой очевидности — очевидности, исследованной и осознанной Толстым глубже, чем кем-нибудь другим, — продолжать отстаивать понятие свободы как чего-то безусловно существующего, неизбежно присутствующего, пусть в минимальных, микроскопических долях, в любом явлении человеческой жизни.
"Только в наше самоуверенное время популяризации знаний, благодаря сильнейшему орудию невежества — распро-странению книгопечатания, вопрос о свободе воли сведен на такую почву, на которой и не может быть самого вопроса. В наше время большинство так называемых передовых людей, то есть толпа невежд, приняла работы естествоиспытателей, зани-мающихся одною стороною вопроса, за резрешение всего вопроса… Естествоиспытатели и их поклонники, думающие разрешить вопрос этот, подобны штукатурам, которых бы приставили заштукатурить одну сторону церкви и которые, пользуясь отсутствием главного распорядителя работ, в порыве усердия, замазывали бы своею штукатуркой и окна, и образа, и леса, и неутвержденные еще стены и радовались бы на то, как с их штукатурной точки зрения все выходит ровно и гладко"27.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: