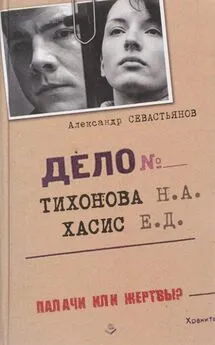Александр Севастьянов - Итоги XX века для России
- Название:Итоги XX века для России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Севастьянов - Итоги XX века для России краткое содержание
Цель публикации — инициировать общественную дискуссию по важной и непростой проблеме взаимоотношений этносов и рас на территории России, а также о судьбе страны.
Итоги XX века для России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
От такого чрезмерного кровопускания нация уже никогда не оправилась. Франция в течение целого столетия пыталась восстановить прежний человеческий потенциал (но часть этого потенциала была израсходована на приобретение колоний в Африке и грандиозную перестройку Парижа, сравнимую только с советскими «стройками века»). Если, несмотря на наполеоновские войны, французам все же удалось за 1801–1851 гг. увеличить свою численность на 8,3 млн. человек, то в дальнейшем, по мере оттока сельского населения в город, наблюдается неуклонное снижение рождаемости. Этим, в частности, объясняется поражение Франции во Франко-Прусской войне. В 1900 г. в этой стране был отмечен уже «минусовой прирост» населения — минус 26 тыс. человек; в 1911 г. — минус 33 тыс. А если сравнить население Франции за 1870 (37,5 млн.) и 1926 (38 млн.) годы, то мы увидим, что, в отличие от Германии, выросшей в полтора раза, она почти не увеличила за этот период свое национальное (без иммигрантов) население.
Окончательное раскрестьянивание страны произошло в ходе Первой мировой войны. Французам ценой невероятных человеческих жертв (с помощью Англии, США и России) удалось взять реванш у немцев, но это был их последний в истории рывок. Убитыми и без вести пропавшими они потеряли 1.354 тыс. человек (не считая офицеров); искалеченными и тяжелораненными — 1.490 тыс.; превышение смертности из-за голода и эпидемий над рождаемостью в эти же годы составило 1.500 тыс. Это был конец. Уже в самом скором времени — в 1940 году у французов не оказалось никаких сил для сопротивления вермахту, что легко и непринужденно привело к немецкой оккупации в итоге «странной войны», длившейся всего с 10 мая по 24 июня. Переживя, таким образом, за какие-то полтораста лет целый каскад опустошительных войн, французская нация раскрестьянилась, истощила свои детородные силы и встала у края пропасти.
С колониями пришлось расстаться — некому стало их удерживать. А там с неизбежностью последовал, как и в случае с Англией, процесс «обратной колонизации». И в послевоенные годы многие наблюдатели отмечают стремительное расовое вырождение и депопуляцию французов. Сегодня в Париже я сам наблюдал почти полностью негритянские и мусусльманские районы и даже белую гувернантку при черных детях. Во время недавней выборной кампании в Алжире свыше 600.000 арабов встали по всей Франции в очереди к избирательным урнам; арабы, имеющие французское, а не алжирское гражданство (а таких в стране сегодня еще больше), в этих очередях, естественно, не отмечались.
Еще в 1928 году бывший премьер-министр Франции Эдурад Эррио писал в предисловии к книге Ш. Ламбера «Франция и иностранцы»: «Присутствие на нашей земле трех миллионов нефранцузов… ставит проблему, от решения которой в большой мере зависит смерть или жизнь». С тех проблема, о которой говорил Эррио, увы, решилась. Треть всех пришлых трудящихся Европы работает именно во Франции, а если сосчитать их по самым крупным странам-работодателям, то — половина.
Прошлое французов и прекрасно, и ужасно, но будущего у них просто нет.
Раскрестьянивание России
ВСЕ познается в сравнении. Рядом с перечисленными странами Россия, пережившая свои ужасные катастрофы ХХ века, вовсе не выглядит печальным исключением, выродком в семье приличных народов. Она в целом позже многих других вступила на путь капитализации деревни (после Великой Реформы 1861 года), но пошла по нему быстрыми шагами. Промышленный переворот состоялся уже в 1890 г., всего на десять лет позже германского. Города и веси пореформенной России стали наполняться людьми, ничего не имеющими и никому не нужными, «босяками»; труд и самая жизнь человека девальвировали на глазах; по сельскохозяйственным районам прокатился голод; тюрьмы и каторга переполнились; страна стремительно полетела к революции. Ситуация усугублялась небывалым ростом рождаемости: с 1890 по 1913 гг. население России увеличилось со 100 до 150 млн. человек. Это неудивительно, поскольку начальный этап раскрестьянивания всегда дает всплеск рождаемости, обусловленный сохранением традиций многодетности при улучшении медицинского обслуживания в семьях, переселившихся в город. Тенденция сохранялась и в первые десятилетия Советской власти: в 1929 году СССР обгонял по темпам прироста населения Францию — в 22 раза, Англию — в 5,5, Германию — в 3,6. Английский экономист Дж. Кейнс в книге «Экономические последствия Версальского мира» (1920) прозорливо заметил в связи с этим: «Необыкновенно стремительный рост населения России представляется одним из наиболее существенных факторов последних лет… Могущество избыточной плодовитости могло сыграть б о льшую роль в разрушении устоев общества, чем сила идей или ошибки самодержавия».
Реформы Столыпина ускорили классовое расслоение деревни, еще подхлестнули процесс раскрестьянивания. Программа заселения Сибири крестьянами из центральных губерний трагически запоздала и не соответствовала масштабу и скорости данного процесса. Попытки царизма придать раскрестьяниванию государственный смысл и утилизировать избыточное деревенское население в Туркестанских, Балканских, Японской и Германской войнах были внутренне отвергнуты народом, ничего для себя не ждавшим и не получавшим ни в Туркестане, ни на Балканах, ни в Японии, ни в Германии (в отличие, скажем, от англичан в Индии, Америке, Австралии или Южной Африке или от тех же русских, но — в Сибири). Царская власть оказалась неспособна и бессильна взять под контроль, обуздать стихийное, естественно-историческое движение раскрестьянивания, охватившее 150-миллионный народ, на 86 % состоявший из крестьянства по переписи 1913 г. Царизм не сумел придать этому движению позитивное, созидательное направление и, таким образом, — оправдать его и предупредить взрывной характер развития событий. Поэтому объективное противоречие с принципами христианского гуманизма, которое вообще свойственно капиталистическому раскрестьяниванию как таковому, трансформировалось в российском обществе в неприятие не только капитализма, но и царизма. Народ не хотел, боялся первого и жестоко разочаровался во втором. Социальный взрыв, направленный одновременно против царя и против капиталистического развития страны стал неизбежен.
«Социалистическая» революция и гражданская война по своему социально-историческому содержанию явились, в общем и целом, резкой реакцией феодального по социальной структуре общества именно на стремительное капиталистическое преобразование деревни, в первую очередь — на форсированное раскрестьянивание, протекавшее в дегуманизированных и неконструктивных формах. В действительности это была не «социалистическая революция», — а феодальная контрреволюция, реакция, вполне конкретно направленная именно против буржуазно-демократической Февральской революции и аннулировавшая результаты последней.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: